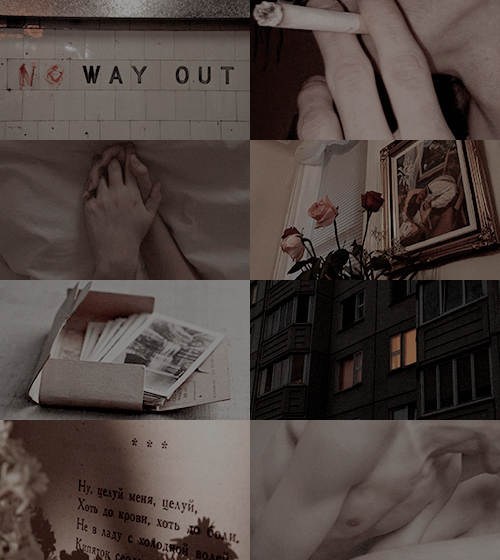
это ты это я
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться42020-09-29 09:55:00
плечо кондратия греет как печка.
трубецкому жарко невыносимо, но не то чтобы раздеваться, двигаться хоть на сантиметр в сторону нет совершенно никакой возможности. футболка намертво прилипает к горячей коже, в паре метров от дивана балконная дверь, закрытая наглухо. с кухни фоновым белым умиротворяющим шумом доносится музыка - слишком тихо и слишком невнятно, не разобрать. кто-то не выключил ноут, видимо, когда уходил; впрочем, все заботы о хоть каком-то порядке в квартире априори лежали на плечах ее хозяина, но тот сам разве что мог лежать на плече трубецкого, свои не подставляя ни за что никакой ответственности за происходящее.
сережа косит на рылеева взгляд: тот выглядит спокойно, будто на море в его голове, вечно терзаемом бурей, на мгновение улеглись все волны. источник магии был вполне очевиден, стоял нестройным рядом пустых бутылок на столе в соседней комнате. одной - даже валялся битым стеклом в коридоре, потому что в программе мишеля отсутствовала способность гоготать во весь голос и держать бутылки в руках одновременно. собирали потом это все полчаса: пока апостол резал себе пальцы, а миша вымаливал почему-то именно у него прощение, кондратий, по традиции не обращая внимания на разнос своей хаты, лишь просил их побыстрее заканчивать и идти уже пить. трубецкой лишь кивал, вторя его словам и добавляя им вес.
ныне вся их компания казалась чем-то нерушимым и вечным, но все они помнят, как все начиналось, и спроси у сережи, как он вообще засунул свой снобизм куда подальше и умудрился обзавестись квартетом друзей, то ответ будет моментальный и простой, уложится в одно сложное редкое имя. за последние пару лет вряд ли трубецкой произносил что-то чаще, чем его.
контакт, никогда не уходящий с первой строчки в списке чатов, потому что самый обновляемый и забитый бесконечными разговорами. когда они приходят в бар всей гурьбой, никто не сядет за стол рядом с рылеевым, потому что трубецкой опаздывает, дайте еще десять минут, и он упадет на соседний стул, чтобы извиниться за это лишь перед ним одним. приложение убера предлагает рылеевский адрес первее, чем свой собственный, и однажды пьяный безбожно сережа ошибается нечаянно, и вместо родного шлагбаума на въезде чужой безлюдный двор, в котором в тысячу раз уютнее.
в этой квартире трубецкому тоже уютнее, чем у себя дома.
она будто живая, со своим непростым, но человечным характером, и до сережи запоздало доходит, что это главный кондратьевский дар - что угодно быть способным наполнить жизнью. стены в квартире, слова в витиеватых строчках, пустые диалоги о погоде, тянущиеся пыткой полтора часа скучных лекций.
самого трубецкого.
развалившись в углу дивана в душной, залитой ярким электрическим светом комнате, с абсолютно мутной головой и тяжестью в теле каждой мышцы, он чувствует себя мучительно живым. источник пламени прямо под боком: жмется рядом, такой же пьяный и непривычно медленный. время будто уходит по кругу, сережа не знает, сколько он так уже тлеет, но если пространство сломалось и такой теперь будет ему отведенная вечность, то и слава богу.
ничего другого сейчас почему-то не надо.
ладно, может быть, кроме одного.
он лениво тянется к подоконнику, на котором валяется пара пачек сигарет, одна из которых точно должна быть пустой. трубецкой хватает ту, что еще на половину, и первые пару секунд не может понять, чьи это вообще изначально, свои или рылеевские. быть может, теперь они у них общие или вот уже полгода они курят одинаковые, черт знает. у них много чего на двоих, и это заставляет ослабить хватку, перестать контролировать все на свете. на кондратия можно положиться, пускай сережа и не привык это делать. ему нравится наоборот: отмазывать рылеева перед преподами за прогулы, провожать до метро, помогать ему убираться утром после очередного шабаша ведьм, допивать за ним редбулл, чтобы дураку и его тахикардии меньше досталось, кидаться в него своими перчатками, если на улице минус двадцать. ему это нужно, сережа знает. кондратий горделиво задирает нос, забывая, что это добавляет ему не строгости, а лишь непосредственности. у трубецкого в горечи топит сердце, когда он видит, каким рылеев может быть, и каким - мог бы быть для него одного.
если напиться, то этих мыслей нет.
зажигалка легко находится в кармане, и разрешение на то, чтобы закурить прямо в комнате, сереже вообще не требуется. он может спалить эту хату, а кондратий лишь сравнит ее огонь напоследок с чем-то адски красивым. щелчок зажигалки и пара секунд на блаженный затяг; трубецкой - эгоист невыносимый - только после этого вспоминает, что надо бы думать не только о себе. поворачивает голову и встречается взглядом, понимая, что на него и так уже давно смотрят. можно потянуться за сигаретами снова, отдать свою, прикурить еще раз, но нет. это даже не лень и усталость, это упрямое желание не разрушить момент, густой и сладкий, как мед.
кондратий - неслучайно разлитый бензин, и трубецкой подносит искру. держа сигарету меж пальцев, дает ему курить со своих рук, не говоря ни слова и не делая лишних движений.
Поделиться52020-09-29 09:55:17
Кондратий не может дышать.
Воздух стелится по полу пуховым одеялом, вязкий, тяжелый; забивается в нос, залепляет уши, закрывает глаза, отрезая от мира реального. У него сейчас один якорь, состоящий из множества крепких звеньев: горячий бок, ровное дыхание, размеренное биение сердца, что прямо в ухо отдавалось и током крови шумело, словно морским прибоем. Как маленькие дети, что охотились за крупными ракушками и прижимали их к уху в попытках расслышать звук волн, Кондратий жмется ближе, крепче, носом мажет под челюстью, чтобы услышать — что?
Трубецкой не море — пустыня. Бросающий в глаза песок сильных бурь, манящий оазисами и обманывающий миражами. Загадка загадок, которую Кондратий не стремится разгадывать — принимает со всеми оговорками, с молчанием, с насмешливостью в голосе, извечно прямой осанкой и неожиданными появлениями посреди ночи у порога. Принимает, и секреты перед ним вскрываются один за одним, хоть и знает Кондратий, что их там еще — великое множество.
Это не мешает. Теплое чувство, раскрывающее лепестки у него в груди занимает так много места; сбивает дыхание в горле, когда колени невольно сталкиваются под столом, когда пальцы тянутся пылинку с чужого плеча убрать, когда Сережа подхватывает его слова и говорит, будто они — его собственные. Между ними нитей всё больше, они сплетаются в тугой, тяжелый канат, и Кондратий на своих плечах его тащит, прежде чем по-настоящему осознает.
Он помнит этот момент в мелочах. В Эрмитаж привезли ценные экспонаты эпохи Возрождения и им пришлось всем с пар сбежать, лишь бы просочиться мимо основного потока людей. Редкая удача: почти пустой зал, ребята ушли дальше, а они вдвоем застряли у особо интересного полотна. Сережа рассказывал что-то, подмечал мелочи, а Кондратий смотрел на него и взгляд не мог оторвать. Был уличен в этом почти сразу же; Сережа тогда цокнул языком и даже пальцем на особо интригующую деталь показал. Мысль — что пущенная со свистом стрела, шальная пуля в сердце навылет: в комнате, полной искусства, я буду смотреть лишь на тебя.
Кондратий — не завоеватель ни разу, и пробивные способности в их квинтете были отданы совсем не ему. Его стезя другая, осторожна, но настойчива; прощупывает рамки и границы, и каждый раз позволяет себе больше и больше, будто спрашивает — что я могу сделать? как далеко могу зайти? где ты меня остановишь? Трубецкой не останавливал; их взаимодействие походило на танец, шаг назад, поворот, повести за собой. Только у каждого была своя партия.
Они совпадают порой. Сплетаются тесно, ладонь к ладони, кожа к коже; обманчиво-сладкое впечатление: Сережа к его чувствам был глух, но не слеп, действия его говорили за себя, и путали куда сильнее, смазывая все точки над и. Кондратий принимает это. Сердце его отсчитывает часы в клети любовных прутьев.
Задыхается. Придавленное алкоголем и горячим присутствием, наконец-то замирает и биться перестает о приваренные изнутри шипы. Сережа — яд и лекарство, благословение и проклятие, хорошо с ним до боли, и так же до боли плохо без него. Кондратий не думает об этом — в пьяном мареве мысли расслаиваются на составляющие и не давят больше многотонным весом, и впервые, на самом деле, ему хочется себя отпустить. Он не думает о рамках — в их квинтете они сгорают со рвением бумажного домика; когда Трубецкой щелкает зажигалкой, Кондратий сгорает тоже.
Вкус Сережи оседает на губах тонкой пленкой. Кондратий чувствует чуть влажную примятость фильтра и оторваться не может. Мажет по предплечью ласкающим прикосновением и окольцовывает пальцами запястье, не давая руку отвести. Вот она, жизнь его, бьется прямо в подушечки пальцев, и этого много, когда удар приходится по всем чувствам сразу. Много. Сережи — слишком много становится (было и так, но это — последнее, что нужно для полыхнувшего огня). Рамки не бумажный домик, скорее пепел, что между пальцев теперь не растереть. Кондратий не чувствует себя способным на все, как это описывать любят, просто... свободным? Нет даже света зеленого, потому что в этой системе координат красного вовсе не существует.
Сережа руку к себе ведет, но Кондратий останавливает её мягким движением. Делает вторую затяжку и тянется-тянется-тянется, выдыхая горький дым в приоткрытые губы. Ему смотреть не нужно, черты лица Трубецкого у него изнутри выточены, но смотрит все равно; из-под полуприкрытых глаз образ чуть смазывается, но на лице Сережи — то же умиротворение, что на его собственном. Оно устанавливает не-правила в мире, что очерчен стенами залы и существует только для них двоих, что воздух из легких выдавливает и наполняет родным запахом. Это естественно — потянуться чуть дальше и прижаться мягким, сладко-горьким поцелуем к сухим губам, ладонь положить на загривок и к себе притянуть, чтобы быть еще ближе.
В непрекращающейся войне с самим собой стоило помнить —
при всепоглощающей любви безответность наиболее опасна.
Поделиться62020-09-29 09:55:39
невыносимо.
трубецкой сильный, но под нежностью этих прикосновений трещит по швам. в зияющих дырах там пустота, затопленное тьмой там скрывается ничто. весь он лед, что трещит под ногами, как бы аккуратно по нему кондратий ни ступал. температура поднимается, и слабину приходится дать. позволить ей взять верх, как позволяет рылееву перехватить свою руку, прижаться ближе, вместо расстояния между нами оставив лишь сизый дым.
сережа все прекрасно знает, кроме одного - господь нам ним смеется или сама судьба. если он не лезет под пули, это не значит, что он отрицает существование войны. ему не откажешь во внимательности, да кондратий как будто никогда ничего и не скрывал. не обрушивал водопадом, не захлестывал как цунами; вода подступала медленно, с каждым мигом становясь все теплее, и для трубецкого не было сюрпризом, что он теперь стоит посреди моря, по горло затопленный чужими чувствами.
приходится задержать дыхание.
близость совсем не смущает. она уютна и сладка, сереже не хочется ничего менять или рушить, а захотел бы - не посмел. взгляд кондратия теряется, но трубецкому не нужно смотреть ему в глаза, чтобы знать, что сахар начал плавиться в карамель. он бы соврал, если бы сказал, что не думал о том, чем все кончится; что не почувствовал, как на том конце слабнут и гаснут, как кондратий отпускает себя, зная наперед, что не встретит сопротивления. никаких неожиданностей не случается, все между ними - патовая закономерность.
будто перед глазами все еще стоит дым. кондратий губами сперва едва касается, но время не останавливается, а сердце у сережи не замирает. оно продолжает мерно биться, потому что воспринимает все, как самое простое и естественное, как новую главу и переворот страницы. рылеев всегда был рядом, сейчас разве что сделал еще один шаг вперед, пока трубецкой, не совершая лишних движений, распробывает момент.
смакует тебя.
словно бесконечно дорогой алкоголь, терпкое вино, долгожданный яд.
сперва надышаться, попробовать, коснуться губами, и только потом уже - пить до дна.
мягкий поцелуй становится все безнадежнее, потому что трубецкой так хочет. потому что, спустя пару мгновений, он перестает разрешать себя целовать и делает это сам, будто обдумывал и решался. но голоса разума здесь больше нет. остался только жаркий воздух, кондратий и его губы, его пальцы у трубецкого в волосах, тянущие на себя.
толкающие за собой.
огонь перебрасывается, и сгорать теперь им вдвоем. без свидетелей, без объяснений, это неумолимое течение уносит, и сережа не может остановиться. сминает губы кондратия, руками крепче к себе прижимает, и поцелуй тягучий, медленный, ужасно сладкий и влажный, будто что-то великое значит. рылеев весь в его руках идеальный, и трубецкого ведет. тело срабатывает быстрее чем мозг и даже чем сердце, заходящееся в сомнениях, он все напористее и смелее, выпрямляется, давит; перехваченная инициатива теперь становится тотальным контролем, а вместо сильных объятий толкает в плечи, заставляет кондратия завалиться назад, упасть на диван, чтобы самому быть сверху. не разрывая поцелуя, трубецкой нависает над ним всем телом, взгляда не смея на него поднять.
кондратия нужно носить на руках, топить в нежности, кутать в ненавязчивую заботу; он будет солнцем и светом, огнем, что не жжет, а лишь греет, и кровью, пролитой за высшую цель.
будет смыслом для жизни, но сегодня нам придется умереть.
отрицая это, сережа продолжает его целовать неторопливо и с жадностью, словно рылеева можно действительно выпить до дна или убить, чтоб не мучился. воздуха становится мало, места в грудной клетке для ревущего сердца - тоже. оно бьется в агонии и каждым ударом оскорбляет: это жестоко.
все, что ты делаешь, - это жестокость.
течение вод, спирт в крови, желание тела, взаимный ослепляющий пожар - оправдывайся, как хочешь. трубецкой осознает до одури четко: никто и никогда не целовал его с такой любовью.
и что это до боли невзаимно.
кондратий сделан для того, чтобы идеально ему подходить: два куска одной большой красно-черной картины. нескончаемая божья ошибка, потому что трубецкой ломается, но в открывающихся дырах непроглядная тьма. пусто.
и он не в силах это исправить. не в силах даже не сделать еще хуже, потому что разрывать близость не хочется. магниты, канаты, тяжелые железные цепи - их связывает, тянет, топит и тащит ко дну.
трубецкой выныривает. насильно заставляет себя запомнить до каждой доли секунды последнее касание губ, потому что точно решает для себя, что больше не будет. что, даже если забить на диалоги с мирозданием и совестью, все это планомерное убийство того, кто смерти не заслужил. это несправедливо и подло. кондратий достоин большего, лучшего и живого. трубецкой бы вырвал сердце из своей груди и кинул к его ногам, но какой толк в красивых жестах, если оно даже не будет ради тебя биться.
сережа все делает неспеша: отстраняется, выпрямляется, садится обратно на диван, переводит дыхание. на рылеева не смотрит, когда говорит:
- так нельзя, - проводит ладонью по лицу и повторяет, - мне нельзя было так делать. ты же знаешь.
мне нельзя тебя целовать.
- прости.
Поделиться72020-09-29 09:55:57
Кондратий не слышит музыки. Та вплетается в общий фон белого шума, что заполняет собой постепенно; тянется с кухни, касается стен, на стол ложится, теряясь между бутылок. Словно пламень, коснувшаяся пленки и не оставившая после себя ничего, окромя белоснежного фона экрана, что глаз режет без наложенной на него картинки. Кондратию всё равно. Как плавится плёнка, так плавится мир вокруг, и всё, что остается — Трубецкой. Якорь; мягкость его волос, сухость его губ, горечь дыма, что вплетается в поцелуй. Кондратию хочется остаться в этом моменте, замереть, словно античные статуи в динамичных движениях, будто Горгона мазнула по ним взглядом, подглядела скрытое и откровенное, чтобы остальным показать, как бывает. Кондратий не хочет показывать, его сердце — нараспашку только для одного, внимает и как секретик под стекло прячет, чтобы потом землёю присыпать — найдет только тот, кто знает, где искать.
Якорь.
Как держать крепко может, так и на дно тянет, крепко обвивая цепью, чтобы не выбраться. Кондратий не то что не может, не хочет — отдает всего себя на этот алтарь, не собирается сражаться за глоток воздуха, за которым руку протяни — и вот он. Ему по нраву это, темное, таящее в себе нечто, сдавливающее грудь от недостатка воздуха. От этого изнутри горит все, и Кондратию хочется остаться здесь навсегда. Это его выбор, собственный, добровольный; плотная цепь не сковывает на самом деле, он сам обвивает звеньями руку, чтобы не всплыть, чтобы остаться здесь навеки. Так кажется правильным, так — встраивается в мир идеально, словно непреложная истина.
Он мягок. Первым прикосновением чувствует неровность кожи на губах, которую исследовать прежде всего хочется. Прижаться губами крепче, скользнуть кончиком языка на пробу, что бы не так, сигаретным следом, а распробовать Сережу целиком, по-настоящему, как хотелось и мечталось украдкой. Сережа не знает, но делает всё так идеально, что Кондратий не выдерживает, опаляет рваным выдохом, прежде чем окончательно задохнуться.
Не нужно дышать. Не нужно ничего — пока Трубецкой рядом, держит так, целует так, ведет так правильно, будто мысли читает. Кондратий не удивился бы — тот слишком давно засел в его мыслях, настолько крепко, что ничем и не вытащить, может прокрался, пробрался, нашел свою лазейку, но, как бы то и было, Кондратий не хотел его отпускать больше никогда.
Он отдается весь. Понукаемый чужими прикосновениями, откликается на каждое движение, вжимается крепче, пальцы в волосах путая. Его не смущает перехваченная инициатива, контроль тотальный не смущает тоже. Кондратий, как правитель захваченного государства, в руки захватчика готов вложить ключ от города. Правда в том, что захвата не было вовсе и всё это — по доброй воле, быть может, не в совсем здравой памяти, но Кондратий бы еще и ладонь его своею накрыл, подавая один единственно важный сигнал, что выбивает сердце: я твой. твой. твой.
И ничто этого не изменит.
Передавать контроль не страшно. Кондратий доверяет ему, на спину ложится без тени сомнений, принимая собой тяжелый вес. Так удобнее, так Кондратия тащит дальше и глубже; Сережу хотелось вытряхнуть из одежды, трогать не только глазами, но и руками, изучить всего, как слепец. Он очерчивает ладонями разлет плеч, цепляет ворот, по груди скользит пальцами, впитывая тепло. Сережу хотелось всего коснуться, изучить, исцеловать, искусать даже, может быть. Нужда эта так органично вплетается в ту жадность, что Трубецкой ему показывает; они совпадают, как два идеально подходящих друг другу кусочка пазла.
Только рисунок разный.
Кондратий подается за ним следом. Шею выламывает от неудобства, но он оторваться не может, не хочет, не так резко, в холодную воду надо осторожно входить, иначе сердце может не выдержать. Пальцы мажут по груди в последней попытке остановить, на место вернуть, продолжить начатое, но у Кондратия голова пустая и за происходящим он словно со стороны глядит в замедленной съемке. Вот Трубецкой, выпрямляется, губы у него припухшие от поцелуев, вид всколоченный не только после вечеринки, но и от пальцев Кондратия, что в волосах похозяйничать успели. Вот Рылеев, в потолок смотрит и не видит ничего, губы — такие же красные, кровью налитые, а взгляд стеклянный, по-мертвому пустой. Так — холодным дулом ко лбу — нельзя — к черту предупредительные выстрелы, лучше так, чтобы мучиться поменьше, но Кондратий отчего-то всё ещё живой.
До боли отвратительное чувство.
Дурацкое. Дышишь, а дыхание не происходит будто, не раскрываются альвеолы, не идет кислород в кровь. Кондратий к отказу готов не был, — потому что нельзя подготовиться, когда так клинит, — но принять его может. Не отменяет это того, как мерзкий ком горло царапает, но Кондратий — всё ещё он — гордец, унижаться и в ногах валяться за любовь не существующую не собирается, только едва высказанное одними губами зачем же? повисает в воздухе.
Дальше — хуже. Дальше — извинения, непрошенные, ненужные, от которых Кондратий вспыхивает и выпрямляется тоже, вперивая в Трубецкого взгляд.
— Не смей.
Судорожный выдох.
— Прощения просить не смей.
За свои действия или за его, Кондратия, чувства. Какая разница. Кондратий мнёт его ворот в кулаке, к себе тянет, вторую ладонь на щеку кладет и большим пальцем под челюстью держит, чтобы взгляд не отвести было, — Слышишь меня?
Взгляд у Кондратия больной и отчаянный, словно у человека, который знает, что завтра его отведут на эшафот. Ему бы отпустить Трубецкого, оттолкнуть подальше, стереть его прикосновения из воспоминаний, чтобы не было за что цепляться больше, но само их наличие — семя, что прорастает тут же; губы у него горят в жажде, горит след от объятия, и нет той воды, что сможет этот огонь потушить. Он не может отпустить, бодается, лоб ко лбу, нос в носу, вжимается ближе, будто напрашиваясь на еще один поцелуй, но самому — не смея. Не прошенным это прикосновение только яд и отраву подарит, вонзится иглами под ногти и кипятком ошпарит холодные руки. Кондратий думает ах если бы. если бы все закончилось так просто.
У него внутри мольба: не бросай меня, не отпускай меня, я же пропаду без тебя. Мольба: ударь меня, оттолкни меня, сделай хоть что-нибудь, я не могу, я бессилен перед тобой.
Кондратий балансирует на грани пропасти, держится за последнюю ниточку и понять не может: Сережа — ниточка та или все-таки пропасть?
Поделиться82020-09-29 09:56:14
перед этим натиском невозможно выстоять, под этой волей можно лишь переломать себе все кости. сдирать с себя кожу и стелить к его ногам, включать пластинку с бессвязными извинениями и иголку поставить прямо под ногти. стоять на коленях и вымаливать прощения за неспособность от тебя оторваться. прости за то, что я ничего не чувствую, прости за то, что мне не все равно. за то, что у меня нет сил исчезнуть из твоей жизни и позволить тебе дышать. за иссушенное сердце старика; я думал, там камень - перепутал с магнитом.
(снег бьет прямо в лобовое, его уровень все поднимается, открой дверцу, выйди из машины и ступишь прямо в свежий сугроб. внутри салона не тепло уже, а душно, они сидят тут целую вечность внутри напряжения, тишины и лживой иллюзии безопасности. у этой тачки больше шансов взлететь на воздух, чем у непогоды на улице тебе вред причинить. ключ горячий от того, как яростно его сжимают, тысячный раз тыкая в паз, и звук зажигания будет той самой искрой, от которой они взорвутся. но после нее каждый раз новым аккордом звучит тишина. он поворачивает ключ в тысяча первый раз, пока машине плевать. у нее жар внутри, холод - снаружи.
- тебе лучше вызвать такси.
усталость и вина.)
рылеев = неконтролируемый импульс; вспарывает своими резкими движениями плавленную затянутую, но объективную реальность, разлитую с легкой руки трубецкого. все в нем остро и колется, с тоном его голоса нельзя спорить, лихорадочному блеску его глаз нельзя противостоять. трубецкой внимает, дышит будто по велению лишь одной этой силы; то, как кондратий несет свою ношу, завораживает и обезоруживает. словно идущий на смерть, словно вернувшийся с проигранной войны. сережа в его руках - лишь очередной инструмент для неминуемой казни.
но его слово - скальпель по опухоли. кондратий несет свое время гордо и красиво, как корону, как траур, извинения как синоним обесцениванию и они оскорбляют взращенную им болезнь, а трубецкой не имеет на это право. весь он перед чужой этой любовью - слабость воли и момент сомнений, пока рядом с ним ни на что на надеясь ничего не боятся. кондратию не просто не нужна его помощь. ему даже хуже делай - он выстоит.
фигуры с этой доски трубецкому передвинуть не по силам. его лицо в чужих руках, и снова жарко и тесно. у рылеева дар - он может повести за собой целую армию, и кто сережа такой, чтобы не идти на его голос. ему все еще хочется смотреть кондратию в глаза, не прятаться, не бежать. близость теплая, а в мягком касании кончиком носа нежности едва ли не больше, чем в поцелуе. трубецкой не знает, что сделает, если его поцелуют снова. засунет кондратию в рот свой язык или дуло пистолета. жар тех, других, губ и дыхания он чувствует на своих. он словно насекомое, умирающее в сладкой смоле без движений.
прости за то, что я никогда тебя не оттолкну.
все, что есть у него в арсенале, - это сотни жалких прости, которым никогда не выйти на свободу.
они друг другу подходят. смотрятся - идеально. на общих фотках в зеркало кондратий чуть задирает нос, а сережа не улыбается. разговоры о вечном и молчание ни о чем. понимающие друг друга с полуслова, поэтому кондратий жмется ближе, и трубецкой читает в этом отчаянное «не вздумай».
прощения просить не смей.
- слышу, - подается вперед, - ты меня все равно не простишь.
и делает это снова. вязкий, тонущий в отчаянии поцелуй.
строить стены он умел как никто другой, но здесь сил нет поджечь хоть один из десятков мостов между ними. ему бы отодвинуться, встать и уйти, но нежность рук кондратия сковывает цепями, гипнотизирует, успокаивает. сережа дышит спокойно и ровно ему прямо в губы, будто все правда будет в порядке. будто снятый с предохранителя пистолет отложили в сторону.
здорово, наверное, целовать того, кого любишь? понятия не имею, что это такое.
у твоей любви ни стыда, ни совести - ни мозгов, ни сердца. у рылеева слишком мягкие губы, сережа не может сказать себе нет. тешить свое самолюбие через чужие страдания, греть свои руки об чьи-то пламенные угли.
воображение не раз рисовало трубецкому до одури смешную картину: где он полюбил, но уже слишком поздно. что ему воздастся за всю жесткость и глупость, где настанет его очередь считать секунды до выстрела и бесконечно тянуться к чужому плечу. это ведь возможно, потому что я никуда не уйду.
его руки ползут рылееву по талии, крепко заключают в объятиях и жмут к себе ближе, чтобы не испортить безбожную близость. кондратий будет проклинать его потом, но сейчас трубецкой как никогда уверен, что не властен над ситуацией вовсе. он слаб перед ним, бесконечно безволен перед этой любовью.
бесконечно лжив. говорить одно - делать другое.
сережа говорит:
- я же никуда не уйду.
(пока ты не прогонишь)
тебе больно? тебе хорошо?
сережа делает: не размыкая рук, заваливает кондратия на себя, утягивая назад. его пальцы касаются теплой кожи на его боках под одеждой. от запаха чужого тела трубецкого невольно ведет, здесь терпко и горячо, и все, о чем он может думать, - это как далеко им возможно зайти.
всегда буду рядом, а верить трубецкому нельзя. мне нельзя тебя целовать, но он будет, если ты того хочешь.
Поделиться92020-09-29 09:56:29
Кондратий ненавидит его настолько же сильно в этот момент, насколько любит всегда. Ненависть его не пламя, а нож острый, что кожу рассекает точным движением. Первое мгновение — не чувствуется совершенно, остается только наблюдать, как раны раскрываются на коже и окрашиваются в бордо. Второе, третье — боль зарождается, скользит по жилам, колет кончики пальцев. Еще немного — и Кондратию больно невыносимо, открой рот — и крик болезненный горло бы содрал. Кондратию больно и только ему.
Нож этот он всегда будет всаживать только в себя.
В руках Трубецкого точильный камень. В его прикосновениях — яркие искры, что высекает лезвие. В горящем огне — ненужное, почти незаметное дополнение. Кондратия от чувств не рвет, выворачивает; внутри в нем что-то трескается, что лёд по весне. Подо льдом этим — полымя.
Любовь подобная хороша только в историях. В лирике хороша, в рифмованных строках, что чужие струны души задевает. Читать о ней — приятно всегда, примерять на себя образ чужой, возвышенный; представлять себя тем, на кого чувства эти были обращены. Они представляются мягким костром, что усталого путника холодным вечером согреет, что спасет от леденящего ветра и будет ласково замерзшие ладони лизать. В реальности же — кожа волдырями лопается, когда это чувство пытаешься обуздать. Это больно. Яркость подобного рода города сносит, подчиняет народы, вершит революции. Кондратий чувствует себя отвратительно неготовым к такой мощи внутри себя, её вдвоем нести надо, делить плечом к плечу, чтобы не сломаться ненароком.
Она не нужна Серёже. Он Кондратия любит по-своему: от его мягкой, ненавязчивой заботы улыбаться хочется. От отданных перчаток, которые Кондратий на двоих делит, чтобы потом ладонь его ледяную перехватить и спрятать в кармане шерстяного пальто. От допитого энергетика и наигранно невинного удивления на лице Трубецкого, от привязанной карты к учетке убера, от улыбки в уголках его глаз, когда Кондратий ему примявшийся ворот поправляет и галстук перевязывает перед ответственными мероприятиями. Любит, но любовь его другая, реверсивное отображение той, что чувствует сам Кондратий и ему приходится — её тяжелый вес он несет только на своих плечах. Он справится. Не то чтобы у него был выбор.
Его эмоции. Его чувства. Серёжа, хоть и был их истоком, их целью, никакой ответственности не нёс. Кондратию больно и тоскливо, в сердце у него дыра размером с град каньон, но это то, что он может вынести. Вынесет-вынесет-вынесет, чувствует, как пули одна за одной входят в мягкую плоть и не думает даже где предел? Допустить эту мысль — нащупать его, перешагнуть и переломиться окончательно. В словах Трубецкого щелкает карабин и взводится курок. Поцелуй — оглушительный выстрел.
Кондратий станет сильнее. Покроются коростой кровоточащие раны, душа обнаженная скроет откровенное и баюкать будет меж ладоней, лишь бы никому не показать. Это будет потом; сейчас же серёжины пальцы задевают торчащую рукоять ножа и словно глубже толкают, кончиком лезвия рассекая сердечную аорту. Он испытывает будто, будто пытается нащупать предел.
Мысль о том, что они оба друг перед другом слабы Кондратий не допускает даже.
Разве?
Серёжа под его ладонями горячий и живой. Серёжа — ледяной мрамор, который Кондратий своими прикосновениями греет. У Серёжи — камень вместо сердца, но пульс его бьется Кондратию ровно в линию жизни. Сердце вторит, подстраиваясь под ровное биение, успокаивается будто, расслабляются сведенные судорогой пальцы на вороте. У поцелуя горький вкус отчаяния, и Кондратий целует, отчаянно нежно, отчаянно любовно, пьёт, словно родниковую воду, терпкий яд. От этого яда нет лекарства, не срабатывает иммунитет; болезнь хроническая и смертельная, жаль, что эвтаназия у нас вне закона.
Кондратия рвут слова. Ему сказать так много хочется, нарушить молчание. Все сотни тысяч люблю — пустой звук, прах, развеянных по ветру. Молчанием можно сказать куда больше, куда громче. Серёжа лучше остальных умел понимать его без слов.
Кондратий лучше остальных умел понимать его слова.
Он не может отказаться от себя. Не может от чувств своих отказаться. Не может выбрать, что делать, потому что никакого выбора нет. Если нельзя изменить ситуацию, измени свое отношение к ней; Кондратий ломает себя через силу, рассыпаясь осколками у Трубецкого в руках. Слова обжигают губы горячим шепотом, и Кондратий так отчаянно хочет в них верить, что позволяет себе — на это мгновение, на этот час, на этот вечер. Это практически правда — сейчас не уйдет. Быть может, много после, потому что не существует той силы, что Трубецкого сможет рядом удержать. Кондратию этого не нужно, любая насильность претит ему и хорошо лишь тогда, когда по желанию. Сейчас — оно есть.
И всё остальное перестает быть важным.
В глазах Кондратия не смирение, но понимание. Яркий огонь, что заживо жрёт, но ладони серёжины греет. Серёжа прижимает ближе крепким объятием, и Кондратий смотрит глаза в глаза, не находя там ответов, поскольку вопросов не задаёт. Это лишнее, ни к чему, ненужное; куда больше он может сказать прикосновениями, первыми и последними. Серёжа, быть может, не коснётся его так больше. Кондратий, быть может, не позволит.
Кто знает.
Это легко: придавить своим весом, устроиться на бедрах, сжать ладони на талии; серёжины ладони на боках — как позволение. К Серёже хочется быть ближе, кожа к коже, пока на это было время, пока стрелки часов замерли в медовом вареве, давая им небольшую фору. Кондратий вжимается всем телом, обласкивает взглядом, прежде чем запустить руку под футболку, огладить поясницу, — ближе-ближе-ближе — второй провести по напряженному животу, груди, и вывести к лицу; пальцами — по гладкой щеке, к губам, скользнуть по их контуру и зацепить нижнюю.
Кондратий тянется вперед, будто собираясь поцеловать, но в последний момент скользит губами по краю рта, заводит руку к затылку и сжимает вихрастые пряди, заставляя запрокинуть голову. Припечатывает поцелуй под челюстью и чувствует губами чужой пульс. В карабине еще пять пуль. В канонаде шума чужой крови выстрел практически неслышен.
От солоноватого привкуса чужой кожи Кондратия ведет. Он отстраняется с шумным выдохом, касается серёжиной щеки и целует сам, сладко, жадно и голодно, до перехватывающего дыхания, до рези в легких. В его поцелуе нет отчаяния, только всепоглощающие любовь, нежность и желание, что существуют лишь для одного.
Тебе нельзя меня целовать.
Значит, я буду.
Поделиться102020-09-29 09:56:43
тяжесть чужого тела приятно давит. давно забытое чувство; сережа не смог бы вспомнить, когда ему было так хорошо и неправильно от чужой близости. трубецкой - закрытый на семь замков сундук, лежащий на дне холодного темного моря и таящий в себе мертвых проклятия, а рылеев - последний, кому он желал бы от него смерти.
но вся эта теснота убивает.
то, как он пьян, отражается в мягкости его движений, в неторопливой грации, словно он сытый довольный кот, которому лень вырываться из хозяйских рук, чтобы прихвастнуть своей гордостью. ему совсем не хочется двигаться и даже думать; все, что может, - это плавиться медом, стираться в пыль под тяжестью этой любви. она уничтожит их обоих, но ты будешь об этом жалеть?
кондратий = тот, кого трубецкой хотел бы видеть подле себя всю жизнь. стоящие друг друга до такой степени, что приведи он рылеева в отцовский дом, то минимум стыда и стеснений, только гордость и самодовольство. смотрите, он мой. смотрите, он меня выбрал. с кондратием вся жизнь до самой конечной точки рисуется легко и просто - красивой любовью, легким снобизмом, бесконечной философией, горячим чаем, густыми красками, рифмованными строками. все пишется так идеально, что можно не говорить ни слова.
и трубецкой не говорит - даже о нелюбви. она тянется красной нитью, что вшивается в кондратия хирургически по старым шрамам. она теряется во всем то, что между ними кипит и клокочет, и сережа эту нить упускает.
когда его целуют, он теряет свои принципы хорошего человека и медленно-медленно гаснет. потому что все это ошибка. его руки у кондратия на пояснице - это критическая. быть желанным пьянит хуже водки. эти поцелуи жгут сильнее, чем любое пойло, и хочется их больше, чем попросту напиться. кондратий сидит сверху и гладит трубецкому мерно вздымающуюся грудь; вспори и лезь туда руками. если бы он попросил разрешения на операцию, сережа бы согласился. смотрел бы замутненным серой похотью взглядом на то, как его грудь распарывают наживую и, запуская руки в клетку, находят там ни-че-го.
я бы отдал тебе свое сердце, но нечего отдавать.
у трубецкого есть только разлитое по жилам тепло, и им он делится щедро. горячими ладонями по худой спине; он ждет поцелуя, облизывая и без того мокрые губы, но улыбается пьяно, задирая шею и позволяя рылееву все. можешь пустить мне кровь, я слова не скажу против. контраст грубости пальцев в волосах и мягкости поцелуев на шее доводит до края, толкает с обрыва. кондратию на надо ничего объяснять, когда сережа нервно хватается за край его майки и тянет вверх остервенело. он отрывается и позволяет себя раздеть, сереже слепит глаза электрический свет под потолком, он трогает его плечи наощупь как вслепую, скользит по ребрам горячими пальцами.
то, что он видит перед собой, ему до одури нравится. тем, что он держит в руках, ему совершенно по-скотски хочется попросту обладать. трубецкой вытягивает руки назад и ждет, когда его разденут, чтобы потом кондратия схватить за шею и прижать к себе крепче, стирая последние границы. безбожно сладко целоваться хочется до конца своих дней, но кипяток по глотке стекает во внутренности и падает вниз живота, а кондратий прямо на бедрах ничуть не спасает, только к плахе смелее подводит. трубецкому тесно в джинсах, его ладони вниз по чужой спине сползают, чтобы повиснуть на ремне, огладить бока, вцепиться в ширинку. нежность топится, уходит на дно, первое правило - градус только повышать, и каждое касание губ становится все фатальнее. трубецкой кусается и улыбается, в этой простой игре ему суждено выходить победителем, поэтому он ничего не боится. в нем храбрости на легион, ему развязали руки, и он смело берет свое. кондратий же его, верно? сам на себя это клеймо поставил, сам же им и гордится. трубецкой ему вторит - зубами по изгибу шеи в излишне голодном поцелуе. хочу, чтобы ты всем показывал, хочу, чтобы тоже носил с честью. запах его кожи настолько родной и знакомый, что не ощущается чем-то новым, ползет безвкусным ядом.
все в кондратие выучено сережей наизусть.
все в нем подписывает ему приговор.
он все еще не спешен, когда в расстегнутую ширинку лезет пальцами, мягко трогает, укладывает ладони на задницу, вдавливает рылеева в себя, потому что под ним стоящий член, потому что помимо высокой морали и вагона заебов у трубецкого есть плоть и кровь, которые кипят, когда кондратий так его целует, будто высасывая все остатки силы воли. здесь только белые флаги, но непонятно, кто кому сдается.
трубецкой ведет раскрасневшими губами по его скуле, кончиком языка трогает ухо, чтобы прижаться, взмолить о пощаде: «останови меня». но оно звучит нагло, как вызов, как уловка - волчья яма, утыканная острыми кольями, что прикрыта пожухлой листвой и обещанием о том, что все будет в порядке. все горит, полыхает, а сережа - не мечется. нарочно не смотрит в глаза, потому что боится увидеть там правду - что после всего это будет их последняя встреча.
кондратию хочется молиться как богу, но на груди у трубецкого ни крестов, ни распятий - только его руки, плавно давящие на грудь. все молитвы уходят прямо ему в глотку.
Поделиться112020-09-29 09:56:55
Кондратий оступается. Шаг за шагом, вязнет в глубоких сугробах, в песчаных дюнах, в болотных топях, что сомкнутся над головой и никто больше не узнает, не вспомнит; поищут, да махнут рукой, был такой, да, куда-то пропал, сгинул, времена нынче опасные, всякое с каждым может случиться. Кондратий знает одно правило, верное, выбитое на подкорке бесконечными повторениями знакомых экстремалов: не сопротивляйся. Пучина не тронет тебя, если не противиться ей, если мутную воду не ворошить неосторожными движениями, если не зарываться в песок глубже и глубже. Дай ей быть собой. Не борись. Прими её.
В глазах Серёжи за чернотой зрачков не видно радужки. Тьма скрывает несуществующее дно, предлагая тонуть в себе целую вечность. Кондратию больно и плохо, тоскливо отвратительно; поцелуи влажных губ пускают по нервам заряды тока. Серёжа — стихия, которую не приручить, не перебороть. Кондратий шагает в эту топь намеренно и непроглядная вода смыкается над его головой. Сережа убивает его — касаниями, лаской, улыбкой, что зарождается в уголке губ. Кондратий убивает сам себя — эмоциями, волнениями, пальцами подрагивающими и напряжением в плечах.
Что-то внутри шепчет: дай ему быть собой. прими его.
Кондратий перестает сопротивляться. Самому себе в первую очередь.
Это не первый-последний-единственный шанс взять то, чего так отчаянно хотелось. Это — момент, запертый в янтаре темной ночи и электрического света, что глаза режет и острые тени бросает. Он существует вне времени и вне эмоций; Кондратий мог бы себя обмануть, глаза прикрыть, наложить ненастоящую любовь на прикосновения того, чьей любви ему так и не досталось, но он не хочет. По губам улыбка скользит — мягкая, нежная, открытая, расслабляются плечи. Он Трубецкого принимает всего, с ласковой не-любовью прикосновений, пыльной дымкой похоти в глазах, губами, красными от поцелуев и тенями следов на шее, что скоро обретут цвет. Кондратий Серёжу полюбил не по частям, а целиком, как бы тот порой не проявлял паскудство характера, на которое остальные только глаза закатывали. Ничего не изменилось. Не изменяется сейчас. Не изменится после.
Кондратий его теплом греется, льнет к рукам, подставляясь под прикосновения. Оторваться не может от пьяной улыбки, что в поцелуе чувствуется, и невольно в ответ улыбается. Такого Серёжу хотелось целовать вечность, мягко прикусывать зубами и тут же зализывать следы укусов, такому Серёже хотелось отдаться полностью и забрать его целиком. Кондратий не знает, куда руки деть — касаться щёк ему нравится больше всего, но он вновь на грудь соскальзывает, осторожно, будто на землю незнакомую ступает. О таком Серёже ему интересно всё, хочется проверить все раздражители, изучить изнутри и снаружи, касаться и ловить ответную реакцию на горячо-холодно, словно ключи подбирать.
Серёжа раздевает его, сам; сам тянет руки, чтобы раздели его, и Кондратий тихо посмеивается на такую вальяжность. Футболку тянет медленно, и влажно целует открывающуюся взгляду кожу. А если я буду касаться тебя ласково? А если к дивану крепко прижму и возьму всё в свои руки? Если заведу ладони над головой и сам возьму тебя — дашь мне? Или тебе по нраву больше смотреть на меня, такого, пока я буду на бедрах твоих сидеть?
Кондратий не выдерживает — пробегается легкой щекоткой по полукружьям ребер, улыбается шально, когда видит, как тень возмущения на секунду закрывает желание, и льнет ближе, когда Трубецкой его тянет к себе, и припечатывает возмущение поцелуем. Так — прекрасно, кожа к коже, близко, чтобы растворять и растворяться. Серёжа — не девушка, его нельзя сравнивать с воздушными девицами, что на Кондратия заигрывающе смотрели и ладони свои подавали; Серёжа резкий, дурной, знающий, чего хочет, его движения вальяжны, но полны томной уверенности своих действий. Кондратий опасения глубже гонит и отдается влиянию момента.
В конце концов, для него это всё в новинку.
Исследовать Серёжу и себя. Медленно, не торопясь, чтобы прочувствовать как можно больше. Движения всё равно резкие, немного дерганные, нервные, хаотичные и не несут под собой никакой системы. Кондратию хочется взять как можно больше, запомнить, отпечатать из этой ночи негативы и спрятать их в самый темный угол, чтобы не проявились ненароком. Кондратий Серёжей наслаждается, выдыхает хрипло в поцелуй, когда ладонь давит на пах, прихватывает зубами губу, кусаясь в ответ. Они возятся, словно молочные щенки, открывающие новое, и это до боли приятно: чувствовать чужие зубы на шее, толкаться бедрами навстречу по-хозяйски наглой ладони, вжиматься ближе, еще ближе, чтобы чужое возбуждение чувствовать как своё.
Шёпот Серёжи — горячий воздух прямо в лицо. Кондратий жмурится и за плечи его цепляется, чувствуя влажное прикосновение языка; выдыхает немым шёпотом слово запретное и щеку до боли прикусывает. Кончики его волос щекочут лицо, и Кондратий пропускает пряди сквозь пальцы, отстраняя Серёжу от себя. Ласкается ближе, смотря замутненным взглядом, что под собой скрывает многое за тысячами замков: "и не подумаю".
Ремень Трубецкого расстегивают в четыре руки. Взгляд у Кондратия открытый и шальной, он весь — дай мне, дай, смотреть на тебя хочу, трогать тебя хочу. Он оторваться не может, не дает ни сантиметру расстояния появиться между ними; не слишком церемонясь, стягивает с Серёжи штаны вместе с бельем, спихивая их куда-то на пол, собственные падают следом. Так — куда острее, ближе, при свете электрических ламп Трубецкой виден так ярко, ощущается так полно, что Кондратий захотел бы — оторваться не смог; он ведет горячими ладонями по коже, от впалого живота и выше, груди и шее, изучая прикосновениями и взглядом: прекрасен. Кондратий мог бы сказать голосом всё, что хотелось, но сейчас — показывать выходило куда лучше, передать собственное предвкушение, упоение, обхватить член кольцом пальцев, лаская, метить шею и плечи, рассыпая пятна отметин по груди — восхитителен, не сдерживайся, я хочу тебя слышать, смотри на меня, смотри.
Кондратий подается вперед, проходится языком по солнечному сплетению, оставляя укус, который зализывает тут же, тянется к выемке между плечом и шеей, втягивая в рот солоноватую кожу; ладонь скользит по ребрам, плечу, к шее, подбородку и припухшим зацелованным губам, очерчивает нижнюю и на подбородок давит, вынуждая открыть рот. Рот у Трубецкого обжигает; Кондратий толкает пальцами его язык и чувствует, как сжимаются зубы на подушечках. Глаза у Серёжи горят, словно солнце полуденное и вопрос в них он читает, словно наяву слышит.
— Будем тянуть спичку?
На секунду у Серёжи становится очень интересное выражение лица. Кондратий не может удержаться — выпрямляется и смеется задушено, головой качает и волосы со лба откидывает резким движением. Хорошо. Ладно. Пальцы Кондратия чуть подрагивают у Серёжи на груди, он губы облизывает и не улыбается больше, в глазах — только темная пелена желания и искорки здравого смысла. У Кондратия из опыта — немногие девушки, нереалистичная порнография, отсутствие смазки, находчивость и поступление по олимпиаде в престижный университет.
...поэтому он скажет спасибо израненному Муравьёву. Кондратий цепляет забившийся под диван чемоданчик аптечки и раскрывает его прямо на животе у Трубецкого. Достает резиновый шланг в стерильной упаковке и отрывает приклеенный к обратной стороне небольшой пакетик, похожий на презерватив. Зажимает его меж двух пальцев и скидывает разворошенную аптечку на пол. В его движениях — бравада на грани фола. Кондратий держит лицо, но не скрывает, чего ему это стоит. В пакетике смазки — на тонкую трубку, но это лучше, чем ничего.
Я не знаю, что я делаю, — Кондратий вкладывает смазку Трубецкому в ладонь, — но я доверяю тебе.
Поделиться122020-09-29 09:57:10
его мокрые краснеющие губы растягиваются в теплой, но обещающей беспощадность улыбке, и трубецкой тонет. в тягучей лаве, обжигающей, плавящей ему кожу и кости, сладкую на вкус. она у сережи во рту, потому что кондратий его целует так, будто хочет, чтобы тот им захлебнулся, и трубецкой сдается. словно не дышит вовсе: успевает только ловить его вдохи губами, кусать в ответ, языком об язык, горячность и лихорадка. у него горячие ладони - у кондратия мягкая кожа, можно ждать пока расплавится воском, потечет по рукам. трубецкой так крепко никогда никого не держал и не думал, что будет. откуда в себе нашлось столько инстинктивной, неосознанной, полузвериной нежности тоже не знает: рылеев все замки открыл и бездумно вытряхнул на диван, все сережины демоны принимают его за хозяина, а трубецкой им больше не указ.
себе - тоже.
возня со штанами будто под счет секундомера, нетерпение делает его движения резче и порывистее, натянутый канат дрожит от того, с какой силой его тянут. ширинка дергается со звуком, приравнивающемся к предупредительному выстрелу - дальше будет расстрел у стенки. дальше будут касания голой кожи там, где трубецкой не смел даже думать. он задерживает пальцы на бледных бедрах, сдавливает их крепче, помогая кондратию вылезать из штанов, а себе - терять остатки самоконтроля. хватается за кромку белья, торопливо его стягивая, - процесс, что он раньше всегда стремился миновать быстрее, теперь оборачивается жаждой и трепетом. сомнительным праздником, рылеев в его руках незаслуженная награда, но трубецкой спорит с судьбой, подтягивается выше, ставит клейма влажными губами, метит в пульсирующую артерию на шее, словно идет на запах крови, которую тоже себе намерен присвоить. в его жестах, касаниях - роспись по кондратию, «будешь моим» без знака вопроса.
его видно в деталях таких откровенных, что нет никакой надежды списать эту близость на сон. трубецкой вздрагивает тяжело, взгляд его темнеет, когда пальцы смыкаются вокруг его налитого кровью члена. так нельзя - ни в этом свете, ни в их контексте, но у сережи лава стекает к низу живота, хочется быстро, всего и сразу, хочется эти губы на себе - целиком и везде. он по инерции втягивает живот, когда чужой язык проходится по его груди, словно вылизать намерен саму душу, и трубецкой кусает губы, смиряясь с мыслью, что его еще никто так не хотел.
что он сам - никогда так нестерпимо не желал.
кондратий трогает его, пытаясь запомнить наощупь, как слепой; у трубецкого в мыслях раскаленная звенящая пустота, эти пальцы у него во рту, он позволяет рылееву все. остается одна только похоть, словно любви не в сердцах теперь биться, а слюной по языкам растекаться. кондратий толкает к краю, точно знает, чего хочет, и сережа поддается, до сладостного удовольствия чувствуя себя драгоценной игрушкой в чужих руках. полуприкрытые глаза и сухой воздух меж рваных вздохов; ему нужно больше.
но взгляд у трубецкого меняется, когда кондратий будто посмеивается. какие спички - здесь и так все горит. смотрит на рылеева сотней вопросов: ты давно так хотел? трогать меня, мой рот и мой член, брать без спроса и отдавать без остатка? кондратий как сошедший с ума смеется, и трубецкому хочется вжать его в себя крепче, хоть как-то этот огонь усмирить. у сережи напряжение лишь по взгляду острому, по губам мокрым, по алеющим от жара скулам, а сам он расслабленный будто, залитый в смолу, знающий твердо, где место его рукам и какая конечная цель. признающий себя проигравшим, но вычерпывающий даже с поражения удовольствие ведрами. ему легко оступаться - каждая дорога застелена.
рылеев = хаос.
трубецкой вальяжно за ним не поспевает, лишь следит затуманенным взглядом. контраст от слитого воедино ощущается так логично и правильно. два куска разбитого стекла - и теперь через склейку, сквозь шов, проникает свет. кондратий гнется, потом на живот ему ставит холодную пластмассу - трубецкой едва заметно недоволен неприятным соприкосновением. совсем не к месту, не та фактура, он даже почти не выглядит любопытным, потому что слабо оцифровывает, что вообще у кондратия в руках творится и почему все движения резко меняют плоскость, и лишь потом, когда резкость чужих жестов обретает смысл, усмешка ползет по его губам как змея - сытая, готовая убивать лишь от скуки. это так искренне и непосредственно, неловко до трогательного, шелест упаковок, но дышится легче, когда коробка аптечки исчезает из поля зрения, и весь трубецкой кожей только к его, кондратия, коже.
он нехотя убирает ладони с рылеевских бедер, касание пальцев выходит дерганным, но они не дрожат. трубецкой греет смазку в ладони и смотрит, смех в его глазах гаснет постепенно и медленно, будто лампочка перегорает. ищет в лице напротив волнение под напускной храбростью, ведет пальцами от ягодиц и по спине выше, гладит с нажимом, будто к себе приковывая. кондратий на его бедрах абсолютно открытый, ему, трубецкому, в руки врученный, и свой трофей сережа с жадностью запоминает. потом подумает о том, за что ему все это; в нем нет тревоги и сомнений - их стирает в пыль густое приторное желание. отсутствие опыта кажется меньшей проблемой, но сережа понимает - не о его заботах дальше будет речь. кондратий ему доверяет, и все, что трубецкому остается, - это крепче держать. у них нет шансов подождать до следующего раза, чтобы умно было, по правилам, потому что другого раза не будет. потому что ворота в ад здесь дважды не откроются, у них только это мгновение, застрявшее в пожаре.
трубецкой давит смазку на пальцы, стараясь не торопиться, стараясь смотреть в глаза, чтобы каждую ноту во взгляде кондратия расслышать. он весь концентрируется во внимание, тянет другой рукой его за вспотевшую шею к себе. ему больно будет, неприятно? трубецкой понятия не имеет, лишь перепачканными пальцами кожа - там - чужая ощущается другой. он знает: здесь критическая точка, нужно расслабиться, каким бы горячим, готовым рылеев не выглядел. он жмет его к своей груди, нежно спрашивает в самое ухо («будет что не так - скажи, ладно?»), ответ снова тонет во влажном ленивом поцелуе, дыхании рот в рот, и трубецкой возле самого лица кондратия проводит широко языком по своей ладони, оставляя мокрый блестящий след, чтобы в следующее мгновение медленно сжать ею его стоящий член в попытке отвлечь от скользких входящих внутрь пальцах. сережа чувствует его короткую дрожь будто нервы у них сплетены воедино, а сердце бьет ровно в такт сердцу. он теряет взгляд, не способный думать ни о чем, кроме пульсации крови по венам - вся она стекает вниз, ее шуме в ушах и кондратия неровном дыхании. все настолько остро и залито светом, как на алтаре, что трубецкой возводит их близость в ранг таинства. он никогда не был так добела раскален, но цепи на шеи - его поцелуи - держат намертво, не дают сорваться. сережа ведомый лишь какими-то инстинктами, растягивает неспешно, резкости себе не позволяет - хранит надежду на то, что для рылеева останется первым и самым важным.
не забота - сущий эгоизм.
я ведь тысячу раз тебе делал больно - и тебе это каждый раз нравилось.
Поделиться132020-09-29 09:57:23
Не так решительно всё.
У Кондратия на глотке — петля, которая затягивается всё туже и туже, давит под челюстью, пережимая ток воздуха. Ему ещё немного — и задохнуться, хотя хотелось бы быстрого перелома шеи под тяжестью тела, чтобы мучиться поменьше. Ему еще много — и задохнуться. Это будет медленная смерть, его, Трубецкого, руками. Кондратию бы силы в себе найти, оттолкнуть чужие руки, встать, уйти самому, но вместо этого он на рычаг виселицы указывает: тяни; теперь уж какая разница, я так или иначе окажусь на дне.
У него выбор одновременно есть и нет. Он отрицает настоящее человеческое — высшую волю, дарованную миллионами лет развития; та самая деталь, отличающая человека от животного, но Кондратий себя человеком не чувствует. Животным тоже. Он — тот, чей разум под чужими руками плавится, тот, чье сердце бьётся бешенным стаккато, тот, чьи легкие резью колет от невозможности дышать полной грудью. Кондратий разбивается на сотни, — тысячи, — осколков, и собрать себя воедино не может. Не хочет. Не будет. Сейчас — это к лучшему, когда на пол ссыпается стеклянной крошкой гордость, здравый смысл, и остается только желанная любовь, болезненная и нестерпимая настолько, что хочется себя на живую резать, лишь бы легче стало.
Но Серёжа справляется куда лучше.
Усмешка его режет без ножа. Вскрывает, словно острый скальпель, и если у Кондратия что-то оставалось скрытым, то сейчас — он весь на виду. Трепещущее нутро, натянутые от напряжения жилы; осторожный страх, запрятанный глубоко за самое сокровенное, показывается на глаза, являя себя во всей красе и отступает тут же, показывая — вот оно, моё доверие, настолько сильное, что не страшно себя в твои руки отдавать. Серёжа не любил его и не будет любить так, как Кондратию того хотелось, но сейчас, глядя на темноту глаз, на грудную клетку, вздымающуюся неровно от потяжелевшего дыхания, на следы на коже, что раскрылись, словно цветы после дождя, он понимал — любви его хватит на двоих. Сейчас. Что будет после — в этот момент не имело значения.
Серёжины демоны льнут к его рукам с довольным урчанием; ничем и никем не приручаемые, радостно слизывают с окровавленных ладоней его, Кондратия, кровь. Покинувшие клетки и никогда не видевшие любви; Кондратий отдает им часть себя и ничего не требует взамен, потому что смысла в этом не было ни на йоту. Потребуй он что — не любовь была бы это, а её суррогат, выжатый из чувств и эмоций. Кондратий ласково треплет их за ушами, давит на нос мокрый и чувствует аккуратную, но крепкую хватку зубов на пальцах — сжать челюсти чуть крепче и переломить пальцы его не стоит ничего, но Кондратий доверяет, в каждом его движении — я твой. Ему нужны клетки, которые дурное сдерживают; в них он бы хотел любовь свою запереть и спрятать туда, куда чужие глаза не будут заглядывать никогда.
Серёжа будет знать о ней так явно, как видит сейчас. Кондратий открыт перед ним, не скрывается, не собирается давить то, чему была дана свобода, пусть и на одну-единственную ночь. В прикосновениях его — трепещущая нежность, в поцелуях — голодная жажда, во взгляде — неуёмная любовь и держать её в узде будто не осталось сил. У Кондратия тоже есть демоны, он тоже человек; его демоны мягко бодаются лбом и единственно важное для них одно: о них знают. О, так они обретают силу.
Они проявляются в рваных движениях. В коротких взглядах, что Кондратий на Серёжу бросает, пока тот возится с упаковкой. В груди гулко стучит, еще немного и, кажется, грудную клетку проломит. Кондратий резок, хаотичен и в движениях его только неконтролируемое желание; он скорее мешает, чем помогает, когда ласкается, когда сцеловывает недовольство, когда прижимает мягким поцелуем уголок губ, изогнутый в усмешке. Ему не хватает времени, чтобы получить желаемое, и не будет хватать; эту жажду не утолить, этот костер не потушить, будь у них в распоряжении века, но когда Серёжа жмет его к себе, ближе, кожа к коже, отчего-то становится легче. В этом моменте хочется замереть, ткнуться носом под линию челюсти, дышать им, потому что Серёжа — воздух, Серёжа — куда дороже воздуха, куда ценнее, без него утихнут пожары и даже угли перестанут тлеть. Быть может, Кондратий слишком радикален, но когда Трубецкой смотрит так, касается там, думать ни о чем другом решительно не получается.
Они сталкиваются взглядами. Кондратий не может глаз отвести, наблюдает как всё топится под направленным на него, Кондратия, желанием, густым и вязким, словно патока. И даже с этим Серёжа — остов контроля и плавных, размеренных движений, в руках себя держать может, хоть и чувствуется сквозь дерганные движения нетерпение. Кондратий чуть улыбается, лишь уголком губ, потому что признавать себя ответственным за подобное — неожиданно приятно, и греет изнутри лучше терпкого глинтвейна на новогодние праздники. Рука ложится на шею, жмет ближе, — хотя казалось бы, куда еще? — и вопрос, в сути своей заботливый, обжигает щеки краской смущения. Кондратий судорожно кивает, кидает взгляд в сторону и прикусывает щеку изнутри, лишь бы отвлечь себя самого, лишь бы не накручивать, лишь бы прогнать поганую тревожную дрожь из колен, но Серёжа целует его с ленностью, у которой прогонять тревогу получается куда лучше, и Кондратий в который раз убеждается, что с этим человеком он пойдет на все.
Даже если в итоге окажется на плахе.
Поцелуй обрывается, и Кондратий недовольно кривит лицо, оставляет пару быстрых, смазанных поцелуев на щеке, и тянет Серёжу обратно, мягко прикусывая его губы. Замирает в напряжении, чувствуя непозволительно откровенные прикосновения, и закрывает глаза.
Серёжа не видит, как мутнеет взгляд, но слышит — короткий стон на выдохе, опаляющий дыханием губы, чувствует — крепкую хватку на плечах, пальцы сжимаются, цепляются, словно за единственно реальное в мареве всколыхнувших ощущений. Для Кондратия это всё — в новинку, слишком ярко, просто — слишком. Неприятно тянет и затапливает удовольствием одновременно, разрывает на части, и Кондратий не справляется; прячет лицо, жмется носом под ухо, где запахи родные — самые насыщенные, самые яркие, и не прячутся за щитом парфюма. Это не помогает, только хуже делает; запахи, прикосновения, дыхание, сердцебиение — Серёжа составляет его единственную реальность, неспешный в своих порывах. Эта неспешность убивает; каждое его движение зарождает стон где-то в грудине, которые Кондратий гасит поцелуями шеи, но, нет-нет, пара из них прорывается, оседает горячим на коже, пуская мурашки по коже.
Он привыкает. Не отмечает того момента, когда начинает подаваться навстречу движениям; только лишь осознавая, что делает, слегка сбивается с ритма и чувствует, как по шее ползут неровные пятна стыда. Кондратию неловко просто страсть, невовремя хочется кинуть чем-нибудь в выключатель, чтобы перестало так жечь сетчатку, чтобы Серёжа не видел его таким, неловким, потерянным в собственных чувствах, не знающим, как правильно и было ли это правильно на самом деле. Серёжа неспешен и так приятно — отдать инициативу в его руки.
Отдать себя ему.
Чем глубже затягивает, тем меньше желания сопротивляться.
Кондратий мягко касается его предплечья, перехватывает ту ладонь, что ласкала член, и находит в себе силы оторваться, чуть приподняться, чтобы перехватить чужой взгляд. Серёжа понимает его без слов, готовит себя остатками смазки, и Кондратий не может смотреть ему в глаза. Ощупывает взглядом плечи, цепляет то, как двигаются мышцы на руках, видит приоткрытые губы, покрасневшие от частых поцелуев, неровно вздымающуюся грудь от сбитого дыхания, но выше глаза поднять не может. Кондратий облизывается часто и дыхание его — резкое, поверхностное; чувствует, как скользит член между ягодиц и воедино сплетаются предвкушение и болезненное волнение, от которого всё изнутри сводит. Если прыгать — то с разбега и не оглядываясь, но Кондратий не может один, в этом безумии они — вместе.
В его дыхании судорожный я не шепот речитативом пожалуйста. Набор слов, скорее интонацией передающий смятение, чем смыслом. Опять — в четыре руки, опять — Кондратий скорее мешается, чем помогает, пока Серёжа поддерживает его и медленно толкается внутрь. Кондратий сводит брови — это неприятно на грани болезненности, но взгляд Серёжи компенсирует всё. Они выдыхают в унисон когда бедра соприкасаются с едва слышным шлепком, и Кондратий накрывает его ладони своими, сжимая.
Долю секунды падение напоминает полет и этого достаточно.
Поделиться142020-09-29 09:57:37
сережа знает: они первые и последние.
это делает касания кожи в тысячу раз откровеннее, если не праведнее. он пытается концентрироваться нарочно, не позволить полупьяному мозгу дать сбои, списать магию/манию на состояние аффекта. перед глазами у трубецкого волшебство, темное, запрещенное и преступное, оно рисуется медовым и пудровым, облоченно во свет, очерченно мягкими тенями по изгибам тела. так красиво, что смело списывай на больное воображение, но сережа о таком и мечтать не смел. это раскаленное желание подняли у него с такой глубины (темноты), на которую он и сам страшился нырять. куда сам в себя боялся заглядывать.
у кондратия страхов нет. в сережины омуты он с головой и без остатка, ищет на дне драгоценности, шарит ладонями по груди как вслепую, сердце в ней заходится в нетерпении. реальность снова в тысячу раз беспощаднее, чем сон; она горячим железом, мокрыми языками. трубецкой трогает, трубецкой бесконечно целуется, запоминает всем, что способно оставить отпечаток, что проводит ток по кончикам пальцев. ловит взгляд, чтобы приковать к себе навечно; у сережи в глазах похоть пламенная, он хочет кондратия так остро и уверенно, что будто реальность еще не затрещала по швам лишь удерживаясь за это желание - твердое, как его член. рылеев на нем - только голая кожа, но сережа, будь его воля, медленно раздел бы его до костей.
кондратий гнет губы недовольно, когда поцелуй на миг рвется - трубецкой в ответ улыбается. он совсем не думает, как им потом придется жить вдвоем, каждый день видя лица друг друга и не смея вновь поцеловать, потому что сейчас, в этой замеревшей терпкой пытке, касаться ртами, зубами об губы, языком в небо - единственная верная норма. так должно быть и только так возможно, словно воздух теперь выдается на пары, и им с кондратием до конца своих дней целоваться положено, потому что только так они выживут.
сережу обжигает тихим стоном. кондратий себя в нем прячет - секундная слабость, трубецкому она отдается запоздалым осознанием. мысли тянутся, варятся с неохотой, понимание ответственности всплывает на поверхность с каждой дрожью тела в его руках. от нее убегать ни шанса, ни желания; она доливает сил в мышцы и становится опорой. взгляд трубецкого чуть яснеет. все это поломано и неправильно изначально: рылеев сперва доверяется, трубецкому - лишь теперь доказывать, что доверие не напрасно; но в этой комнате неправильное все. чужое неровное громкое дыхание, сережа силится отыскать в нем болезненность, понять что-то большее, прислушаться. они два дурака ничего совершенно не смыслящие в том, что творят - и трубецкой не видит, но знает, что он кондратию может сделать легче только временем, неуместной нежностью, совсем неискренней неторопливостью в плавных движениях ладоней. трубецкой зеркалит его дрожь - она у него внутри, в пульсации крови, один сфокусированный взгляд на приоткрытых зацелованных губах, с которых сереже на шею дыхание падает звуком - и жар этой крови жжет ему внутренности. я так больше не -
ему нужно думать о рылееве совсем другое - как ему, хорошо или плохо, но он повержен, зациклен и думает о том, каков тот внутри и снаружи. пьянящий, горячий. как медленно с его тела спадает трепет болезненный, уступая место тому, другому, и как оно расслабляется в тепле поцелуев, в сережином спокойствии. как оно отзывается, а кондратий смелеет, и нет к нему ни малейшей жалости. у них слишком много взаимного - кожа трется, а мысли сплетаются, им до смертельного нужно друг от друга лишь одно, первое и последнее.
все должно быть иначе, когда речь о любви. но в этом спонтанном безумии больше искренности, чем отчаяния. трубецкой таким бывает редко - отдавшимся себе целиком, думающим кровью, отключившим мозг, смотрящим в глаза. его обнаженность не в теле, а в том, что вытряхнуто рылееву под ноги. оно прячется в том, как он замирает, когда кондратий перехватывает его руку; оно в том, с каким наслаждением ведет губами по алеющим следам на шее - как вернувшийся на место преступления. как он жаждет смотреть кондратию в глаза, чтобы тот его насквозь видел: посмотри, какой я на самом деле, запомни меня таким.
касаться своего члена, размазывая остатки смазки, невыносимо - возбуждение такое сильное, что трубецкой вполне серьезно боится, что выдержки ему не хватит. он не помнит себя настолько жаждущим, голодным до бешенства, его ведет инстинктами, его ведет - от запаха кожи рылеева, ее соли, ее света, от того, как в нем мечется беспокойство, и этот страх, сережа может его понять, но не может представить. он понятия не имеет о том, достаточно ли было его пальцев, но им теперь место у кондратия на бедрах, крепко сжатых до ярких отметин. сережа сильный, мышцы на его руках очерчиваются, вены проступают под теплой кожей сильней, когда он максимум приятной тяжести чужого тела хочет взять на себя. ему не смотрят в глаза, и это благословение, он иначе не выдержал бы. сережа ползет взглядом по груди, животу и плечам, по теням и изгибам, с полуоткрытым ртом, ловящим сухой воздух, потому что осознание, насколько они одно целое, бьет по мозгам лишь чуть меньше, чем по нервным окончаниям невыносимая близость. они вместе до боли - трубецкой опускает его себе на член, входит так медленно, что сердце пропускает слишком многое. он застревает навечно в этом кадре - продал бы полжизни за то, чтобы его сохранить в памяти в самых четких деталях; в этом есть что-то нездоровое и садистское, но то, как меняется лицо кондратия, искажается болью от каждого сантиметра члена внутри себя, доводит трубецкого до сумасшествия. в нем голодно и пьяно все, бесконтрольное право обладать развязывает руки, что-то темное в нем шепчет, что ты теперь можешь делать все; но сережа ведет взгляд ниже, и нет, его руки связаны намертво желанием держать кондратия на себе до тех пор, пока ад не закончится. ему злое и ревнивое просит умолять, чтобы больше никогда и никто не видел тебя таким красивым, таким уязвленным и властным одновременно, таким же - насколько трубецкой силен и слаб под этой страстью.
эти руки на его, сережи, ладонях.
приказ или мольба - черт его знает, но он выдыхает: «посмотри на меня».
он дает ему время, но это стоит больших трудов - на месте удерживает лишь взгляд. до одури четко осознает: так жарко и узко больше не будет никогда. что они друг у друга первые, а он у кондратия несправедливо любимый. все горит таким праведным пламенем, что трубецкой забывает об истинных чувствах, а пьяного секса не случается - они занимаются только любовью.
он смотрит в глаза этой любви и неважно чьей, хоть своей собственной.
кондратий делает вдох чуть спокойнее и ровнее, сережа его волнение чувствует кожей, и когда оно хоть немного стихает, когда он чувствует не глядя одобрение, то пробует все так же неспешно толкнуться глубже. разряды тока расходятся дрожью, трубецкой внимательно за его лицом, потому что знает, если сосредоточится на ощущениях, то все сам непременно испортит. здесь не остается места нежности, робости; все, что ему остается - это сдерживать голод, чтобы не делать рылееву хуже. лицо у того меняется и кривится, зацелованные губы раскрыты в немом стоне, капли пота стекают по шее. его чувства всегда были болью, и только теперь она такой сахарной отдается. сережа дышит тяжелее с каждым медленным движением бедер, железо плавится, кондратий - вслед за ним. пальцы трубецкого в него впиваются намертво, будто не отпустят никогда, ему хочется больше - трогать кондратия везде, гладить ребра, крепко сдавливать шею, но рук убрать не решается, все еще меряет силу ударов сам - возбуждение горячими волнами все ближе подступает в границе самоконтроля.
но он сдавшийся и пораженный. он здесь то, ради чего кондратий сам разобьется, поэтому ждет, когда у того в движениях появится больше плавности и размеренности, когда их свяжет теснее, и сережа не набирается храбрости - он получает разрешение с той же пыточной медленностью, но двигаться сильнее, упиваясь тем, как содрогается тело в его руках.
сладко.
Поделиться152020-09-29 09:57:50
Это больно.
Боль душевная отступает под гнетом физической и Кондратий этому почти благодарен. Любой, даже самой малой возможности отвлечься от того, что, нет-нет, да зудит где-то на краю сознания: это единственный раз, больше не будет. Кондратий эти мысли запирает на сотни замков, но они рвутся наружу, словно самые яростные волкодавы, завидевшие снаружи свою цель. Эта цель — прямо под ним, в свете электрических ламп, словно в свете софитов. Кондратий смотрит и не смотрит одновременно, взгляд его мутнеет, плывет и смотрит он будто мимо, цепляясь за осколки изображений: напряженный торс, капелька пота, скатившаяся между ребер, напряженные мышцы на руках, проступившие вены, дергающийся кадык. Восприятие разбито ровно так, как и сам Кондратий, и в нем — ни единой уверенности в том, что он сможет собрать себя вновь.
Ладони Серёжи горячие, и Кондратий плавится-плавится-плавится. Растекается в руках, сгорает в этой топи и тонет в этом огне; спасение утопающих — дело только их рук и в этом Кондратий бессилен, никто не поможет больше, и ему в этой ночи — потеряться, оставить часть себя, чтобы возвращаться к ней порою, целую вечность чувствовать себя не-цельным, но у Серёжи сильные руки, которые держат его, не дают сгинуть окончательно и от этого тревожно-сладко в груди.
Зачем нужна плаха, если ты сам себе — самый лучший палач.
Это не смелость. Бравада. Безумие того, кому жить-то осталось всего ничего. Сережино сердцебиение отсчитывает ему секунды, и если скоро умирать, то какая разница. Зачем стыдиться и о чем-то жалеть, когда можно взять то, что так откровенно хотелось, настолько, что желание скрывать не было ни сил, ни возможности. Сережа знает, и знал его всегда слишком хорошо. Мог увидеть это в нем, запрячь Кондратий всё в сотни сундуков, поэтому Кондратий не скрывается. Не здесь и не сейчас, когда юношеское желание дышало жаром и на плечи давило тяжелым крестом. Так должно быть, наверное, так пишут в книгах и разгромных психологических статьях — первый раз должен быть с тем, кого ты любишь, кому ты себя доверить можешь, перед кем тебе не страшно будет никогда, чтобы только комфорт и ничего лишнего, только прикосновения любовные, осторожность, чтобы не навредить ненароком и готовность друг друга слышать.
Казалось бы, у них было всё это, но вот оно — давление на плечи и терпкий привкус пропащей любви.
Я весь — для тебя.
Серёжа — это про самоконтроль. Это про выдержанное лицо и просчитанные движения. Кондратий умел видеть его насквозь и видит сейчас. Видит, как тот сдерживает голод и жажду ради него, Кондратия, и от этого опаляет горячим внутри. Боль отступает на второй план, Кондратий переступает через неё и себя; сходятся брови, обозначая болезненную морщинку, но он не останавливается, давая Серёже вести, толкаться глубже, медленно, ме-е-едленно, чтобы Кондратий смог привыкнуть, но вместо этого — ток оголенным проводом бьет по нервам. Он чувствует каждый сантиметр чужого члена, чувствует, как головка задевает что-то внутри, отчего только напрягаться и судорожно выстанывать воздух. Кондратий — весь натянутая струна, только тронь ненароком — и порвется, напряженный до сведенных в судороге мышц, но Серёжа зовет его, и этому зову нет сил сопротивляться.
Кондратий поднимает взгляд, и его опаляет. Он никогда не видел Серёжу таким, а оттого смотрит и наглядеться не может. На то, как плещется на дне его глаз что-то такое, чему в мире названия нет и не будет; Кондратий мог бы придумать что-то, описать и назвать, но не найдется таких слов, которые передать смогут этот момент, наполнить его теми же эмоциями, от которых тянет изнутри сладко, сворачивается горячим, практически болезненным огнем внизу живота. Взгляд у него дикий, звериный практически, черный от поплывшего зрачка, искры желания пляшут на дне глаз, готовые прыгнуть в общий костер безумия. Желания и чего-то еще. Серёжа держит себя на поводке контроля и конец его подрагивает ладонями на бедрах. Кондратию до боли хочется улыбнуться — да, это я сделал тебя таким.
Движения приобретают плавность. Боль отступает окончательно, оставляя только легкий дискомфорт, который вскоре пеплом осыпается под горячечностью движений. Сережа двигается размеренно и глубоко, каждым движением выбивая стон, выдыхаемый сквозь приоткрытые губы. Кондратий дышит тяжело, осторожно подается навстречу, будто на пробу двигая бедрами, пытаясь поймать этот неторопливый, размеренный ритм, забрать у Серёжи этот контроль — я справлюсь, отпусти себя, дай мне любоваться на то, каким ты можешь быть лишь для меня. Голодным, жаждущим, темным — все демоны, как на ладони, и Кондратий дает им отмашку; наклоняется и смыкает зубы на шее, оставляя болезненный след, чувствует, как ладонь Серёжи крепко перехватывает его за шею, отрывая от себя, чтобы глаза в глаза смотреть, и во взгляде нет ничего цельного — всё сгорело в огне.
Движения становятся грубее и резче, оставляют яркие следы по телу, чтобы потом тянуло сладкой болью воспоминаний. Кондратий слышит рык, не знает, свой или чужой, кусает чужие пальцы, чувствует, как дыхание перехватывает, и не от желания, а от того, как ладонь давит на гортань. Это перестает напоминать любовь, перестает напоминать секс, здесь только голод и его утоление, больше-больше-больше, мне нужно всего тебя забрать, иначе я сдохну, протяжные стоны и влажные ритмичные шлепки, горящие от недостатка воздуха легкие и приятная боль от слишком крепкой хватки. Кондратий двигается слишком резко, на одном неосторожном движении член выскальзывает из него и мажет горячим по бедру. Чувство потери проходит по телу сильной судорогой; Кондратий сжимает колени у Серёжи на боках и льнет к нему близко-близко, задушено ругаясь и посмеиваясь, используя этот момент как секундную передышку в происходящем безумии.
В смешках Кондратия нет ничего здорового. Он больной от кожи до костного мозга — сразу внутрь, сразу — в самые потаенные уголки души, чтобы не вычистить даже самым праведным огнем, не вылечить самым крепким лекарством. Это его ноша, его Голгофа, на которую всходить ему раз за разом, преодолевая самого себя, но отчего-то именно сейчас, когда он неловко посмеивается и серёжины ладони перехватывает с тихим и торопливым подожди-подожди, я сам, становится несоизмеримо легче, будто хотя бы на секунды, на одно короткое мгновение, растянутое в вечности, Серёжа с ним эту ношу разделил. И этого достаточно.
Кондратий не сдерживает порывы — зачем? завтра умирать — тянет серёжину ладонь к лицу, прижимается к ней щекой и выдыхает длинно, разбавляя терпкую похоть собственной мягкой лаской. Проводит кончиком носа по длинным пальцам, задерживаясь у узлов костяшек, мягко прикусывает подушечку пальца, кидая короткий темный взгляд из-под ресниц. В глазах Серёжи не тьма — огонь, и он клеймо ставит прямо на сердце (там места свободного нет и оно ложится поверх других).
Кондратий сам обхватывает его член. Скользит ладонью по горячему стволу, задерживаясь у головки, и направляет её в себя. Второй раз не больно, только сладко тянет, до дрожи. Кондратий коротко ведет языком по пересохшим от рваного дыхания губам и взглядом Серёжу держит, перехватывая у него контроль. Сам задает темп, плавно двигая бедрами и опираясь ладонями на грудь. Под ладонями бьётся что-то, так сильно, что рискует грудную клетку пробить; Кондратий легко царапает пальцами и прикусывает щеку — размеренные движения члена внутри толкают его к самой грани.
На губах у него лисья усмешка, в глазах — топь, что недавно в серёжиных глазах плескалась. Кондратий жаден; в его взглядах и движениях — тебя сегодняшнего я заберу себе. себя сегодняшнего я отдам тебе и это будет равноценным обменом. Ему хочется и он делает: берёт серёжины ладони в свои и скользит ими по телу, бокам, груди, оглаживая себя его руками. Взгляд у него темный и жаждущий, сказать хочется — смотри на меня, трогай меня, вот здесь я особенно хорош. Кондратий и говорит — понукаемыми движениями, мурашками на коже, где серёжины пальцы проходятся, голодным спазмом мышц, которые хотят ещё и ещё. Не выдерживает — двигается быстрее, сбиваясь на дрожащие стоны и влажные шлепки, на задушенный речитатив слов, в котором мешается драгоценное Серёжа и жаждущее ещё. До грани ему совсем чуть-чуть, и он обхватывает член ладонью, подстраиваясь под собственный ритм, жмурится, сводя брови, потому что невозможно это так выдержать, не-воз-мож-но, но насилу распахивает глаза, потому что не простит себе этого, и Серёжу ему бы отпечатать на внутренней стороне век.
Навсегда.
Поделиться162020-09-29 09:58:08
его стоны вместо молитвы звучат приговором.
проклятием, что будет преследовать на жизни вперед, не давая покоя, потому что сереже эти звуки как яд под кожу - обещают смерть. рваное сбитое дыхание кондратия с каждым движением все громче, в нем что-то призывное как от красной тряпки перед злым быком, потому что сереже до мерзкой жадности хочется дальше и безнадежнее. хочется до оглушения эти стоны себе в самое ухо, громкими, болезненно-терпкими. звуки фоном отступают, растворяясь, перед этим - самым важным. знакомым до боли голосом, который в голове был всегда, но теперь вытесняет оттуда все, остается разлетаться эхом, записываться на плёнку. все, что слетало у рылеева с уст, всегда было красиво и било в цель, но трубецкой теряет взгляд в его раскрытом рте, мокрых губах, кончике языка, и все, что ты мог бы сказать, пустой звук по сравнению с тем, как ты стонешь.
кондратий гнётся, наклоняется, сережу от этого тоже пробивает дрожью, потому что связаны они донельзя тесно. вдалбливается в горячее тело сильнее, руку на шее без лишней нежности тоже сжимает, заставляя в глаза себе смотреть. ему нужно их видеть - эти глаза, безумные и беспощадные; ему нужно - оставлять следы, какими бы они ни выглядели. сдавливать бедро сильными пальцами, держать за тонкую шею, чтобы везде алело и сладкой болью тянуло, как будто вместо любви здесь что-то сродни насилию, но такому же искреннему. самому честному и откровенному - для этого сереже нужен этот взгляд. в нем лихорадкой плещется: мне нравится то, как ты делаешь больно.
хочешь еще?
до дна, до раскаленной лавы. касания горячие настолько, что способны, должно быть, оставить ожоги, а зубы в кожу - мелкие звериные шрамы. не касания - клейма, что жгут кожу остро, без жалости, и послевкусием оседают глубже, в кровь, мягкой тягучей болью. не поцелуи - раны сквозные, рвущие, обжигающие; дают прочувствовать, насколько ты живой.
насколько погибающий в этой узости, близости. трубецкой что-то ощутимо то ли теряет вслепую, то ли отдает нарочно - всего себя, всех своих демонов. они врассыпную и голодные, кондратий их кормит со всей щедростью кусками собственной плоти, запахом своей соленой кожи, вязкой слюной со своего языка. сам себе вяжет петли и взводит курок, отбирает у сережи все - даже контроль над движением тела, все плавнее выгибается, и больше не просит - берет сам. у трубецкого нет власти с ним спорить, нет даже сил взгляда оторвать от стекающей вдоль ключицы капли пота, от мокрых прядей волос, беспорядочно липнущих ко лбу, но не скрывающих эти немилосердные глаза. они подчинили себе все - боль в теле, любовь в сердце, трубецкого под ним.
пустотой простреливает насквозь, сережа как из пекла выныривает, движимый, как животное, лишь инстинктом вернуть все обратно, словно только так теперь истинно и возможно - друг в друге, вжимаясь, сплетаясь, теряясь. отрезвляет, бьет недовольством, трубецкой кусает себе губу, будто все это причиняет ему настоящую боль, и тянет ладони к налитому кровью члену, но горячие пальцы ловят, держат; рылеев посмеивается - трубецкому совсем несмешно, ему нужно и необходимо, пьяная ласка лишь солью по обнаженной ране. от нее скулеж и замеревшее дыхание, кондратий словно зверя баюкает, губами, носом по напряженным пальцам, с виду пытаясь успокоить, приручить, но сережа видел, знает, чувствовал и запомнил - между ними не осталось ничего, кроме синего пламени, и когда кондратий бросает него взгляд, трубецкой вместо них видит свои круги ада.
потом - чувствует их жар.
когда пальцы сжимают его член, грудной выдох выползает шипяще сквозь зубы. грань где-то рядом, безнадежность обретает все больше деталей и теперь носит его, рылеева, имя, и сереже искренне кажется, что дальше только забытье и больное воображение. у него под вспотевшей спиной не тысячу раз отсиженный ими диван, а океанское дно, и душный воздух вокруг - это кипящая злая вода. но трубецкой гонит искры с глаз и проваливается глубже, когда кондратий решительно, смело опускается на его член сам, и, не давая ни единой секунды на осознание, вновь на нем двигается, с большей жадностью, с томной горячностью. с желанием глубже, сильнее - оно застревает у него на губах; и пока кондратий подожженный, сережа степенно, но тонет.
рылеев - про другое. про легкий снобизм и изящность даже сонных жестов, про неряшливый лоск, свойственным только тем, кто не хочет ни быть, ни казаться. про кончики пальцев, спрятанные в натянутых рукавах, и голос, проникающий внутрь, как хирургический скальпель в руках человека, который еще не решил, спасатель он или убийца.
он подчиняет себе. сережа не хочет думать о том, как он будет звать это действие, таинство следующим утром, и не может. это больше, чем секс, и давно не любовь, выползло за ее границы, вышло из берегов волнами теплой крови. все, что было до этого в его жизни, оказывается не имело ни малейшего смысла и чувства. хрупкие девочки, заботящиеся о том, чтобы выглядеть красиво, пока их ноги раздвинуты.
кондратий не пытается выглядеть, но трубецкой уверен, его вид теперешний будет преследовать его во снах, живых, ощутимых. все перед его глазами тоже легко списать на сон, потому что рылеев должен быть про другое. не про эту жестокость и похоть, не про такую откровенную блажь. но это все еще он - сережа трогает его руками, ведомыми его же, кондратия, ладонями, хочет запомнить каждый изгиб его тонкого тела, мягкость кожи, ее влагу и огненность, вены, мышцы и там, внутри. в его гибкости резкость, а слабостью он давит, проваливает. трубецкому мучительно сладко; то, как кондратий на нем двигается, размашисто, жадно, отчаянно, как дрожит его тело в исступлении, неизбежности, как с губ его охотно срываются стоны, как сам он весь распятый в наслаждении.
трубецкому мучительно. его демоны дохнут от передозировки, потому что кондратия слишком много. он отдает всего неистово и без остатка, но этого чересчур. у сережи замыкает разнеженный мозг: как после него ему смотреть на людей вокруг. думать о ком-то другом. если все это темная магия, тайный обряд, чтобы к себе его намертво привязать, то трубецкой его чувствует - эту силу, прицельную, меткую, что испепеляет все, а на выжженном поле будет цвести (погибать) все, что рылеев теперь отдает. оно в трубецком застревает пулями, остается шрамами, оседает каменной пылью от клубов дыма, оставшихся после взрыва.
хваленного контроля как ни бывало. кондратий захлебывается рванными вдохами, трубецкой - давит по ребрам сильнее. звуки сводят с ума, губы ноют в паузе без поцелуев. не целовать его плечи и грудь - это пытка. сережа слабо осознает, что делает, когда за чужой рукой ладонь тянет следом, медленно, запоздало; кондратий настолько все делает сам, что потом сережа ревниво хватает его за запястье, отводя руку. теперь он этот огонь оставляет в тягучей смоле, чтобы время тянулось дольше, сахар плавился длинно на языке. обхватывает его член у основания влажной горячей ладонью, приковывает к себе взглядом - цепью, канатом, коротким поводком. перед глазами алая пелена, за нею яркое, как адское пламя: ты кончишь от того, как трахаешь себя моим членом.
безапелляционно - ультиматумом.
у сережи на лице ни усмешек, ни самодовольства, у него на губах дыхание, рвущееся из груди шумно, со звуком. вторую ладонь он впечатывает в ягодицу, сжимая до боли, до алых следов. но ад остается там, где они все еще смотрят друг другу в глаза, печатая в память растягивающийся момент. кондратию выбора нет, он двигается всем телом быстрее, грубее, измотано, у сережи от сдавливающей неги у самого спина туго гнется. чужой вес не ощущается ничуть, кондратий весь как никогда тонкий, обезоруженный, все еще жадный, опускается на член с до оглушения громким, пошлым, грязным звуком, и еще - и еще - и еще, с ритмом, что становится важнее сердечного и за которым трубецкой не успевает дышать, не успевает моргать, может только глаза в глаза, и это ощущается более тесным, чем сжимать рылееву член пальцами, чем свой собственный под жаром его бедер чувствовать. там механика тела, трение, желание, воспаленный инстинкт и наслаждение, а здесь - ловя его взгляд на грани, трубецкой никогда не найдет нужного слова для того, что между ними вспыхнуло и дотла. я тебя - я тебя - я тебя - я тебя —
сережина ладонь ползет по мокрой дрожащей спине вверх в тот самый момент, когда оргазм оглушительный и оставляет перед глазами только золото света; когда влажная кожа как клетка и сквозь звон пустоты только шум дыхания; когда ослепительно громко и внутрь. и пальцы трубецкого, как последняя оставшаяся сила - милостивая, сжалившаяся, единожды проводят по горячему стволу, второй рукой давя кондратию на плечи, шею, загривок, чтобы наклонить к себе, чувствовать эту выгнутую спину, его последний молебный стон впечатать себе в рот, выпить его залпом, в один глоток, в один вдох, украденный с истерзанных губ. не поцелуй - слепое жадное касание, как попытка всего его себе целиком и навечно.
сквозь слабость и исступление сереже пульсирует, истекает кровью кричащая неуместная мысль, заставляющая обхватывать кондратия крепче поперек талии, не давая между ними быть ничему, даже воздуху, и касание губ превращать в поцелуй с вернувшейся ленностью, влажностью, нежностью, потому что ты знаешь - ты ведь знаешь —
этот поцелуй последний.
Поделиться172020-09-29 09:58:22
Сережин скулеж пробивает его насквозь. Пробивает сбитое дыхание, пробивает ладонь властная, которая его руку настойчиво отводит. В забытом револьвере еще четыре патрона, но Кондратий, кажется, получает их все. Раны расцветают на его душе, как следы — на коже, остаются развороченными ямами, воронками от взрывов, в которых погибших исчисляется миллионы. Кондратию не больно и не страшно, он не задыхается от переизбытка чувств, отчего-то научившись в этом мареве дышать. Ему хочется — больше, сильнее, ярче, больше никаких тормозов и стоп-кранов; один единственный — в глазах напротив, победа и поражение, жизнь и смерть. За этим взглядом он пойдет на край света, полезет в петлю и под дуло подставится. Я ради тебя всё сделаю, веришь? — и огню в нём следует беспрекословно, будто так и надо, будто задумано так кем-то сверху, чтобы сгореть в этом адском пламени и новым возродиться, как фантастический феникс.
Нет. Так не будет. Никаких возрождений, у происходящего — дорога незнакомая и извилиста, но имеющая лишь одно направление, захочешь — не заблудишься. Кондратий в этом пламени сгорает, зная, что будет в конце, но сейчас — ему наплевать настолько, насколько это возможно. Истерзанной душе — плохая припарка, но Серёжа все делает лучше, крепким, уверенным прикосновением, толчками сильными, движением навстречу. У Кондратия бедра подрагивают от напряжения, он сам — хнычет на грани слышимости, задыхаясь и ладони в кулаки сжимая, потому что невозможно, нельзя так погибать, но, казалось, он был создан для того, чтобы попрячь все законы мироздания и доказать — можно. Это было легко, когда в мире у него одно солнце было, колющее и арктическое, слепящее глаза, обжигающее, но не греющее. Серёжа перед ним сейчас весь — фантасмагория, будто ненастоящий, знакомый и незнакомый одновременно, ведущий и ведомый, сбитое дыхание и крепкая хватка. Кондратий разрывается, к ладони толкается ближе, подается бедрами назад, быстрее-быстрее-быстрее, полыхая от немого приказа.
Он слышит: шлепки кожи о кожу, сбитое дыхание, сорванные стоны. Видит: яркий румянец, покрасневшие от поцелуев губы, блестящие темной пламенью глаза. Чувствует: крепкую хватку, как ритм становится рваным, жестким, сильнее, ну; внутрь плещет горячим и Кондратий не выдерживает, всхлипывает, ему нужно всего ничего, пожалуйста. Серёжина ладонь как избавление, как выдернутая из гранаты чека; Кондратия бьет мелкой дрожью, когда он заливает чужие пальцы и жмется ближе, еще ближе, разделяя дыхание на двоих и выстанывая в чужой рот несказанные слова.
Хватка у Серёжи стальная. Кондратий расслабляется, мягко касается плеча, чувствуя, как отступает безумное, прячется под пуховым одеялом наступающей неги. Они спаяны донельзя — остывающим между животами, крепким объятием, членом внутри него. Кондратий чуть подается вперед, когда неприятно тянуть начинает, и коротко хныкает прямо в серёжины губы. Поцелуй сладкий до боли, до острого комка, который поперек горла становится и дышать нормально мешает; Кондратий гулко сглатывает и примыкает к чужим губам мягко, отвечает на нежность и оторваться не может. Ему хочется от происходящего урвать как можно больше, запомнить, сложить в шкатулку с надписью совершенно секретно, и этот поцелуй — финальный замок, самая крепкая цепь, которую только можно найти.
Кондратий не знает, сколько проходит времени. Минуты, десятки минут, час, пока они лежат так, нежась в объятиях друг друга. Кондратий разрывает поцелуй сам, мягко уходит к уголку губ, к щеке, под челюстью, словно ставит финальную точку. Дышит горячо в шею, видит и не видит следов, оставленных, как флаг завоевателя на земле, которая ему не принадлежит. Он выписывает кончиками пальцев восьмерки на плече, слушает ровное дыхание, успокоившийся ритм сердца, гулко бьющийся ровно в его. Ему не хочется вставать, но время постепенно ускоряет свой ход, возвращая в реальность. С кухни всё так же звучит что-то, оставленное на так и не выключенном ноутбуке, шумит сигнализация за окном и слышится собачий лай. Кондратий дышит и надышаться не может, будто это — последние глотки кислорода, уготованные ему на этой земле. Быть может, так и было. Быть может, ему придется учиться дышать без легких и жить без сердца.
— Останься, — горячий шепот. Кондратий мажет носом по линии челюсти и в глаза серёжины смотреть не может. Ему нужно ещё немного, чтобы в себя прийти, но, кажется, этой высоты он больше никогда не достигнет, — Уйдешь завтра. До того, как я проснусь.
Что-то внутри рвется, медленно, с неохотой. Кондратий хочет сохранить это что-то целостным, но знает — куда легче будет, порви он эту нить окончательно, отпусти надежду и прими происходящее. Серёжа не будет его. Всё, что было сейчас — было влиянием момента, обоюдной слабости, желания, которое Кондратий не должен был выпускать и которому Серёжа не должен был поддаваться. Никто никому ничего не должен — Кондратий про себя хмыкает и лица всё так же не поднимает. Серёжа под ним замирает.
— Я не проснусь, пока ты не уйдешь. Обещаю.
Кондратий трется щекой и, — наконец-то, — улыбается. Не вымученно, немного печально, но по-доброму. Отпускает от себя, рвет нить прямо сейчас, пока анестезия действует (завтра будет безумно больно). Сплетает их пальцы и голову поднимает, встречая чужой взгляд. Он не будет выстраивать между ними кирпичной стены, никогда, не будет жечь мосты, но нутром чувствует, что Серёжа уже готовит сваи. Быть может, это правильно. Должен же хоть кто-то из них двоих остаться в здравом уме, не так ли?
Серёжа — про стойкость воли и духа, Кондратий — про влияние момента, гореть так, чтобы другим светло было. Сегодня в этом огне сгорели они оба, и у всего будут последствия. Кондратий надеется, что серёжиной стойкости хватит им обоим, но сейчас, — сейчас он с тихим шипением отлепляется, откатываясь на бок и губу прикусывает, чувствуя, как по бедрам течёт. Взгляд Кондратия теплый и ласковый, любящий, он позволяет это себе в последний раз, чтобы после поглубже запрятать; не вытравливать из души, такое только с собой в могилу уносят, но быть может, быть может -
Что именно быть может он не продолжает.
Кондратий встает, выпрямляется на ногах подрагивающих и оборачивается через плечо. Серёжа не отрывает от него взгляда, и, быть может, Кондратий та еще картина сейчас. Серёжа — тоже, одно загляденье, заласканный, сытый, словно домашний любимый кот, вытягивается на диване и роста ему слишком много, и Кондратий его за собой манит, ладонью наконец-то прихлопывая выключатель.
— Вставай, грязное животное. Сначала душ, потом кровать. Пошли-пошли.
За окном уже, оказывается, зачинается рассвет.
Под струями воды Кондратия не держат ноги. Тело ноет, хочется то ли потянуться, то ли почесать проступающие укусы, но в объятиях Серёжи уютно и тепло. Он стоит, положив голову тому на плечо, отвратительно заласканный, отвратительно трезвеющий, и на судорожный выдох Серёжа только крепче его обнимает, не задавая вопросов. Кондратий ему благодарен.
Они не целуются. Сплетаются руками и ногами в позе отвратительно неудобной для сна, и Кондратий ему лбом в плечо упирается, будто стараясь стать меньше. Горячее дыхание Серёжи прямо в макушку умиротворяет лучше любого снотворного и кажется, будто так и надо, будто так и будет, но посреди уютной дремы вдруг становится холодно. Кондратий держит свое обещание, не открывает глаз, слушая шорохи по квартире, и только подушку к себе подтягивает, когда хлопает входная дверь. Она всё ещё пахнет Серёжей и хранит его тепло.
Заниматься самообманом просто, но Кондратий никогда не был из тех. Он рвет себя и давит, открывает глаза и воет, низко, на одной ноте, затыкая себя его запахом. Правда — неприглядная сука, но тот, кто говорил, что умирать страшно — не был прав.
Умирать — не страшно.
Но никто не рассказывает как дальше жить.
Поделиться182021-05-17 16:20:35
он знает, как это бывает, и закрывает глаза в ожидании колких накатывающих волн стыда, как холодного прилива по берегу; ждет, когда разряд тока сотрет довольство с его лица, а мышцы снова закуются в сталь и станут толкать его прочь, в одиночество, в самообладание. ждет, когда удастся вынырнуть и вдохнуть что-то, кроме его запаха; ждет и слышит, как время перестает идти, а сам он под силой притяжения — к тебе — все продолжает падать на дно.
сережа кутается в тепло — оно все от кондратия. липкое касание кожи, так будто они врастают друг в друга, и хоть бы так было взаправду, трубецкой согласен.
согласен мягко, но крепко прижимать к себе худое плечо, одним жестом пресекая все лишние движения, целую вечность, если мирозданию прямо сейчас суждено сломаться вслед за ним самим. это будет не вечная жизнь, а вечная смерть, захлебывание янтарной смолой, на вид сладкой, наощупь горячей. сережа в ней один погибать не намерен. стыд так и не приходит, вместо него только щемит в груди, тянет под ребрами от теплого дыхания на коже, прикосновений необдуманных, лечащих. сердце успокаивается, и даже от шепота кондратия не сходит больше с ума — дошло до края. оно ударов не пропускает, трубецкому нечем себя выдавать. кончиками пальцев по острым лопаткам и плечам гладит, скользит едва ощутимо, словно этими руками синяков не оставлял. словно его руки только про любовь, и хоть бы так было взаправду, но —
в его молчании покорное согласие. рылеев знает его насквозь; сережа не успевает ни панике поддаться, ни осознать толком, ни их ярко-алое в свое черно-белое запихнуть и получает верный ответ на собственный вопрос раньше, чем сам себе его задает. кондратий просит остаться — сережа знает, что нужно уйти. ни кивает, ни дергается и лишь чуть громче, тяжелее выдыхает (хорошо, как скажешь), когда с плеч валится ответственность за то, что он все еще здесь. так проще в тысячу раз и справедливее, чем самому себе оправдания искать, почему нет сил расцепить руки, отвернуться, хоть как-то дать понять, что все кончено. пускай кондратий думает, что это вновь его лишь воля — словно ты, правда, способен его обмануть.
но ему все еще нужно быть здесь, сейчас и рядом. его, трубецкого, никто никогда с таким трепетом не касался — щекой, губами, пальцами, всем телом. никогда не чувствовал себя настолько на месте; жар с кожи сползает, впитывается внутрь как яд, но сожаление так и остается лишь страхом, не переступает порог этой комнаты. сережа чувствует на себе теплый взгляд, чужие слова слышатся заклинанием, в простом «обещаю» — смертельный диагноз будто рылеев обещает что-то еще. трубецкой не хочет знать, что именно; он итак уже измаялся думать о любви.
он уйдет обязательно и тоже будет убеждать, что не ради себя. кондратий понимает гораздо большее и наказание за ошибку принимает лицом к лицу и переплетая пальцы, а сереже как обычно смотреть как кровавое течение разбивает волны о камни и самому не двигаться с места.
когда кондратий разлепляет объятия, выбирается из его рук, сережа едва не хватает его за локоть следом и совершенно недовольно кривит лицом. ему мгновенно простреливает неуютом и отсутствием, словно кислород перекрыли, в голове нытье до ужаса детское про вернись и пожалуйста. трубецкой лениво потягивается, его ничуть не стесняет липкость вспотевшей кожи и особенно грязные пальцы, ему до мерзости комфортно в своем теле теперь, и порыв кондратия он воспринимает без энтузиазма. из-под полуприкрытых век лишь следит за его фигурой, взгляд по бедрам и спине ползет медленный, сытый, внимательный. сережа усмехается с того, что кондратию даже здесь нельзя забить и расслабиться, и да, животное, но мысль о том, чтобы смывать его запах со своей кожи, трубецкой встречает с неохотой, даже если неторопливо, совсем тяжело встает за ним следом, потому что выбора не оставляют.
в ванной сережа нелепо посмеивается, избегает взглядов на зеркало, предпочитая терять их в плавных изгибах им самим отмеченной шеи. у кондратия кожа местами как полигон, а трубецкой — победитель. он силится представить подобную ситуацию с кем-то другим, в прошлом или будущем, но не выходит. закрывая глаза, под тяжелым веками картины пишутся полутенями и светом, в них только эта больная, тревожная близость, и сережа вдыхает запах рылеевских волос полной грудью с таким преступным удовольствием, будто это наркотик. будто больше не будет, не позволят и не посмеешь. шум воды звучит белым, ему все еще хочется касаться кондратия, даже когда жара и волнений не остается. это странно, до жути комфортно — обнимать его без стыда, без стеснений, без притворства; о голой коже не думаешь, когда грудная клетка тоже нараспашку. вода по его лицу, и мокрые подрагивающие ресницы; кондратий вдруг кажется невыносимо хрупким, словно все пламя его этой теплой водой задушило, всю эту неистовую силу из костей его тонких вымыло, и, чувствуя его губы на своем плече, сережа коротко целует его макушку, наконец задаваясь вопросом о том, что ему ныне можно, а что — нельзя. дорога пошла под откос, а все, что он может, — это оставить после трагедии меньше смертей.
но их теперь только двое. из-за линии горизонта медленно, робко выкарабкивается солнце, и за окном что-то точно продолжает идти своим чередом, наплевав на сломанные судьбы и хребты. сережа обратно ложится тоже с улыбкой, его что-то греет во всей этой искренней суете; в том, что сколько рылеева в этих жестах и фразах, в этой заботе о том, как им быть. в его взгляде, что он ловит на себе — несфокусированном и бережливом. в том, что ничто не предвещает беды, и будто здесь и теперь его лучшее пылает в зените, и кондратий плавно гаснет в полудреме, в объятиях своей первой любви, словно если закрыть глаза, то кошмарный сон растворится. но трубецкой, даже проваливаясь под тяжестью усталости в минуты сна, не перестает забывать о том, что все самое страшное впереди и неизменно в реальности. что эти касания прекратятся, что свет сквозь шторы будет биться все настойчивее, стрелки часов идти по кругу, а его мягкое, нежное сыпаться в алмазную пыль под гнетом того, что трубецкой хотел бы, но не может изменить. что его сердце, пылкое, страстное, ведомое тем, что срывалось с рылеевских уст, будь то обещания, обвинения, стоны; его скулящее и отзывающее на голос снова должно замолчать.
сережа почти не спит. обнимается, нежится, кондратий к нему ластится, словно кошка, обхаживающее больное место, будто знает — да, там, в груди, разрывается. страх неизбежного не заставит бежать, он сковывает, опустошает, в головой толкает в холодную воду. трубецкой косится на кажущееся спокойным лицо кондратия, смотрит долго, ища ответы: что было и что будет. боится ненароком разбудить грохотом своего сердца, потому что оно в агонии бьется. сережина катастрофа внутри, ледяное цунами лишь хрустальным отблеском в серых глазах. он знает, что должен делать; мозг заботливо раскладывает происходящее на причины и следствия, беспощадный механизм строит модели поведения, пытается просчитать, доказать, опровергнуть. но сережа слышит ласковое тихое дыхание на своей груди, и вывод совсем тоскливый — его математика проиграла этой поэзии.
его бесы, кажутся, веруют в бога.
думать тяжело и не хочется. он снова скидывает принятие решения на фатализм, словно за него все выбрано давно, будто нет этой опции — закрыть глаза, мысли прочь из головы и остаться в этих объятиях до полудня, чтобы потом без страха смотреть в глаза, не жечь их электрическим светом, не прятать и снова тянуть губы в улыбке.
о господи, снова тебя целовать.
никаких иллюзий: кондратий не про совершенство, мечту или четко продуманный план, нет, он тут потому, что у двух осколков пазы друг в друга идеально вставляются, один излом и два зеркальных рванных шва, кусками которых трубецкому разве что грудную клетку себе вспороть и бросить рылееву кровоточащую мышцу под ноги осталось. так ведь делают те, кто не любят?
что-то разумное на фоне как писк аппарата жизнеобеспечения: размеренно, но постоянно долбит свое зацикленное должен. трубецкой не знает, сколько времени проходит, не отдыхает ничуть. любуется кондратием долго, даже не гадая, спит ли тот; ему не нужен ответ на этот вопрос, он все усложнит. он тормознет, заставит твою грудь вновь беспокойно вздыматься, поэтому сережа убеждает себя, что все в норме. кондратий тихий, бездвижный, в глубине души невыносимо сильный и знающий все наперед, поэтому не нужно делать ему больно лишним милосердием.
если муки страшны, то смерть — это благо.
сережа привычно нетороплив, в его размеренных движениях собранность, он не позволяет себе даже ненужного взгляда назад, чтобы не сбиться с пути. штаны с пола подбирает с тихим шорохом, перед глазами все четкое и продуманное. он знает каждый угол этой квартиры, не мельтешит, не суетится. на кухне находит телефон — там даты, отметки, город и даже погода хором твердят ему о том, что объективная реальность все еще стоит на месте. время не замерло, а твой апокалипсис так и остался только твоим. в ванную сережа принципиально не заходит: воспоминания друг за другом, но некоторые в самом низу оставляет незапачканными.
ему хватает от силы пару минут на то, чтобы собраться. никаких сопливых возращений в комнату, чтобы любоваться чужой болью, гладить кондратия по волосам. это будет садизмом и пыткам подобно. наутро у бессонного сережи якобы ясная, светлая голова, в ней что-то умное говорит о прощении и нормальности, гонит его из коридора прочь. ему, правда, нужно уйти, хотя бы для себя, тут ведь комнаты, звуки и запахи, они все теперь лишь об одном, и, ныряя в куртку, трубецкой наклоняется, чтобы обуться, но лишь запихивает шнурки под язык — торопится. неслышно бьет по карманам, там валяется пачка сигарет, выглядящая теперь как якорь.
все в полном порядке.
десятки раз закрытая им дверь захлопывается снова. короткий выдох, и до кристального ясное самому себе: ты все правильно сделал. беззвучная лестничная клетка как открытый космос — здесь все другое, чужое, мертвое, и воздух в легкие не идет. так ведь делают те, кто не любят? трубецкой сгибается вновь, чтобы завязать проклятые шнурки, смотрит на пальцы свои — не дрожат ни капли, но зажмуривает глаза и сквозь черноту чувствует, как дрожит все нутро, как звенит стеклом земля под ногами. как в этой тишине, пустоте, бездушности идет трещинами каменный фундамент, как свинцовые тучи содрогаются обещанием смерти (пока ты не уйдешь). в сером вакууме ни тепла, ни яркого света, он бьет поддых, и трубецкой (давно такой неуклюжий?) теряет равновесие, ловит опору в двери за спиной, держится за нее и нет, упускает, сползает по ней, все в порядке, гнет колени, смотрит на ботинки, они едва в пыли, ведь так много было разрушено. его руками сломано и искалечено, перед глазами кричащее «ради чего». это бесцветное, дохлое спрашивает, как тебе, холодно? стыдно? ты трогал любовь и позволил ей задохнуться; что ты сделал — что ты сделал — что
что ты наделал?
(все правильно)
пальцы по лицу ползут теплые. сережа чувствует под задницей холодную бетонную плиту, ей лежать здесь еще сотню лет, а ему лучше уйти. не до завтра, но лишь бы не навсегда, пускай и снова решает не он. ему бы себя наконец послушать, да только там мерзлая тишина, треск тонкого льда под спящим холодным морем, потому что у трубецкого ни малейшего понятия о том, что и как будет дальше. как ему вернуться в этот дом, как ему снова эти плечи рукой обхватить, страшась задушить ненароком. ты все делаешь правильно.
это все еще невзаимно.
это будет твоей виной.
серые стены беспристрастны, но ощутимо торопят; они старые, видели даже смерть. никакой катастрофы, твои горящие помпеи все еще только твои. нелюбовь — это разве дотла? сережа теряет взгляд в стене перед собой, спокойно дышит, прислушиваясь к недружелюбной тишине, пытаясь собрать себя в кучу, ища оправдания секундной слабости и завязанным в узел внутренностями. алгоритм простой: сперва шнурки, потом встать, исчезнуть, позволить кондратию не жить —
заживать.
дверь за спиной его держит, но, когда трубецкой беззвучно ударяется об нее затылком, а сантиметрами выше его макушки щелкает закрытый на ключ замок, то пальцы его холодеют.
Поделиться192021-05-17 16:20:43
Через неделю ничего не меняется.
Следы, оставленные на коже, сходят постепенно, будто нехотя. Обнажают кожу по частям, словно броню снимают, чтобы новую надеть. Кондратий не смотрит — не может заставить себя взглядом остановиться в зеркале, только чувствует, как спустя пару дней тянет чуть меньше и на ровном месте спотыкается.
Он делает это с собой сам. Ковыряет гниющие раны, оправдываясь тем, что их чистить надо, прежде чем зашивать. Мимо аптечки ходит несколько раз, прежде чем отправить её под диван; лавирует между бутылками и игнорирует существование дивана. Существование кровати ему игнорировать хочется тоже.
Замьюченный чат помогает чуть больше. Кондратию хватает только одного взгляда, чтобы увидеть фотографии. Увидеть лицо свое, невозможно счастливое, светящееся практически, разморенного Серёжу с этой его блуждающей полуулыбкой, когда он наконец-то отпускает себя. Хочется удалить чат, удалить контакты, телефон выкинуть и сменить симку — оборвать все связи, все ниточки, потому что Кондратий не знает, как будет смотреть Трубецкому в глаза. Не знает, как вообще будет на него смотреть. Его слишком много; следами по квартире разбросано эхо его присутствия. Недопитая бутылка, смятый окурки в пепельнице, любимая кружка, которая негласно отведена для Серёжи. Кондратий сам — эхо его присутствия; когда он в первый раз поднимает взгляд на свое отражение — мир не перестает существовать.
И от этого еще гаже.
Осторожный Мишель скидывает картинку, которая вызывает улыбку, но забывается спустя мгновение, задает вопросы, но правильные, будто чувствует, что у Кондратия на душе неспокойно. Вызывается приехать, потому что тебя уже четвертый день в универе нет знаешь как тут без тебя тоскливо и вообще я уже еду что тебе взять. Кондратий смотрит на набор стикеров, который тот скидывает после сообщения и хмыкает себе под нос. Мир не перестает существовать, но в войне с самим собой он всё ещё не в одиночестве.
Взгляд у Мишеля преисполнен заинтересованности и желания ответов на вопросы, но они говорят о чем угодно, но не об этом. О том, что Паша в очередной раз ввязался в перепалку с преподами, а не о том, что у Кондратия места живого на шее нет даже спустя столько дней. О том, что Апостол штурмовал студенческий профсоюз, а не о том, что в квартире всё ещё стоит бардак, будто они ушли отсюда только вчера. Миша помогает ему убраться (на деле убирается сам, пока Кондратий сидит на кухонной табуретке, поджав ноги), а потом вытаскивает на улицу продышаться влажным питерским воздухом.
Время не останавливается. Время вообще страшно равнодушно ко всем, кто к нему взывает. Время не лечит, рубцует раны, помогает перешагнуть и дальше пойти, чтобы назад не оглядываться. В этом, вероятно, есть истинная сила равнодушия; Кондратию до нее далеко, но после ухода Мишеля, он наконец-то смотрит в глаза своему отражению и не отводит взгляд.
Это карта, путь которой он будет знать наизусть, сколько бы времени не прошло. Касание рук, губ, зубов; Кондратий ведет кончиками пальцев по коже и давит на особо болезненные, чтобы вызвать ответный отклик. Боль прокатывается по телу сладкой судорогой, клубясь где-то внизу живота, и Кондратий прикусывает щеку изнутри до металлического привкуса на языке. Он может проследить путь каждого из них, повторить прикосновение чужих ладоней, что фантомно давят на кожу, сжимают крепко, может представить сладкие, жадные поцелуи, почувствовать укусы на коже, что алели теперь символами принадлежности, будто Серёжа на нем клейма хотел поставить. Будто от них и так свободного места не было. По бледной коже рисунками, которые Кондратий то ли стереть хотел, то в себя вживить навечно, выплавить в памяти воспоминаний, не забывать никогда (знал — не забудет). Они — знак принадлежности, который на деле принадлежностью не является. Они — следы чувств, которые не должны были найти свой отклик, но всё-таки нашли.
И кому от этого стало лучше?
Кондратий делает себе больно намеренно. Не как человек, получающий удовольствие от боли, а как тот, кто готов со своими страхами лицом к лицу встретиться. Заявляется в пятницу в институт и размьючивает чат. Там не так много с той самой попойки, в основном мемы, пашины ворчания, фотографии, сделанные Мишелем и комментарии Апостола. Серёжа молчит, ровно как и он сам.
Кондратий — грудью на амбразуру, но его друзья — все еще друзья, знающие его лучше остальных и умеющие обходить острые углы. Наверняка с подачи самого Мишеля, который Пашу тормозил от ненужных вопросов, но смазанный взгляд Серёжи по шее вдруг режет куда больнее самого острого ножа. Тот к Трубецкому был ближе сейчас, и, быть может, они успели об этом поговорить.
Кондратий не хочет об этом знать.
Ему кажется, он не хочет об этом знать.
Пятница заканчивается грандиозной попойкой на четверых, Паша склеивает в баре девушку, Миша что-то вдохновенно вещает, Серёжа всё ещё самый трезвый из них. Они выходят перекурить с Мишелем, Кондратий по привычке выуживает пачку из кармана и смотрит на нее, не произнося ни слова, понимая, что не сможет. Что этот запах пробудит ненужное, что он пытается похоронить в себе, хотя надо бы встретиться с этим лицом к лицу. Кондратий сильный, быть может, но не настолько, он не может — так, и, поэтому, когда Мишель поворачивается что-то спросить, Кондратий выкидывает практически полную пачку в урну и криво улыбается:
— Дашь покурить?
Вместо этого Мишель притягивает его к своему плечу, и Кондратий тяжело дышит чужим запахом, теплым, уютным, не имеющим ничего общего с, — хватит, не надо, вернулись обратно; сигареты у Мишеля паршивые, но сейчас — то, что нужно.
Иногда кажется, что становится лучше.
За неделю сходят почти все следы. Остаются рваные раны, воронки в самых критических местах; самый яркий — у сонной артерии, не хочет сходить, словно отчаянно за что-то цепляется. Кондратий не скрывает его, несет, словно крест, след никогда не случившейся любви. Мишель встречает его пониманием, Паша — неодобрением, Серёжа — сожалением. Когда в аудиторию входит Трубецкой, Кондратию хочется умереть еще раз, хотя казалось бы, куда уже. Поточная аудитория, длинный ряд парт полукругом, спасает его, зажимает между Мишелем и девушкой с другого потока. Горячий шепот обжигает ухо: Кондраш, ты сейчас ручку сломаешь.
Разжать ладони оказывается отвратительно сложно.
Они не смотрят друг на друга. Кондратию в срочном порядке приходится осваивать курс по контролю себя, не спотыкаться о шею Серёжи, застегнутого наглухо на все пуговицы. Если там еще осталось что-то — оно спрятано под всеми слоями одежды, словно признак слабости, словно то, чего стыдиться надо и не показывать никому. Кондратий чувствует одновременно так много: тоску, горечь, боль. Когда среди эмоций появляется злость — дышать становится как будто легче.
Как сильно бы не убеждал себя Кондратий, как много ответственности на себя не брал — в этом все равно были завязаны они оба. Серёжа мог сколько избегать этого, глаза закрывать и делать вид, что произошедшего не было — оно было. Просто осталось где-то там и теперь им страницу эту нужно было перевернуть, чтобы догнать тех, кто уже успел убежать вперед. Серёжа не смотрит на него, Кондратий — не смотрит тоже. В общих сборищах их раскидывает по разные стороны компаний; находиться рядом не неприятно, но это приносит так много, что у Кондратия ныть начинают уже давно сошедшие следы (он помнит каждое их место). У Серёжи тоже что-то своё на уме и он впервые не может это прочитать.
Не хочет.
В их взаимодействие возвращаются короткие взгляды. Кондратий вытаскивает его из черного списка, через пару дней получает ссылку на плейлист, который слушает целый вечер, но оставляет без ответа. Еще через пару дней протягивает Серёже второй наушник на особо скучной паре и этот плейлист они слушают вместе. Еще через пару недель — задерживает прикосновение на чужом плече, слишком увлеченный историей, но тут же сбивается, осознавая, что именно он делает. Еще через неделю задерживает прикосновение без опасения и взгляды их становятся куда дольше.
Они осторожны. Будто знакомятся заново, проверяя, где границы проходят в этот раз. После войны территории принято делить, но, кажется, у них здесь мирное соглашение. Серёжа все так же прикрывает его на первых парах, дает спать на потоковых лекциях и мягко вытаскивает тетрадку из-под локтей, чтобы вести конспект, который обязательно понадобится у особо принципиального преподавателя.
Кондратий приносит с собой ромовую бабу размером с кулак и делит её вдоль, чтобы каждому по глазури.
Не кажется.
Поделиться202021-05-17 16:20:58
вода внизу спокойная, тихая. трубецкой облокачивается на ограждение, теряя взгляд в бликах на темной глади. фонарей кругом полно, но небо черное, легкое, смотреть на него страшно. вторая сигарета идет медленнее, вместе с ней сердцебиение тоже приходит в норму. оно — вода у сережи под ногами, размеренная и вечная. течение реки смиряет с тем, что фатум неумолим, а стрелки часов назад не пойдут. то, что должно было случиться, обязательно случается. чтобы препятствовать ходу воды, нужно строить железобетонные дамбы.
они прорываются тоже.
если трубецкой закроет глаза, то там будет только что отгремевшая буря.
шторм, шквальный ветер, девятый вал.
последствий катастрофы приходится избегать. он, честно, совсем не видит иного выхода, необходимости в долгих разговорах нет. они все прекрасно знают и остро чувствуют, и это лишь делает хуже, рушит у самого основания все мосты, сносит тяжелыми волнами берега. бесконтрольно, беспощадно, обрушивается ливнем. сережа знает: между ними стихия, а ее никому не под силу к рукам приручить. трубецкой закрывает глаза и слышит, как в панике, в ужасе бьется тревожно сердечная мышца, давящаяся, плюющаяся тем, что давно забыла как глотать. не знающая, что со всем этим делать. это сладкое, горячее она не принимает, смотрит с ненавистью, винит во всех бедах. оно лежит никому ненужное и с каждым днем спасительной тишины все гниет и гниет, на куски разваливается. ни единой минуты без мысли о нем, и трубецкой свое лишнее, жадное прижимает к себе словно душить в объятиях пытается. пожалуйста, замолчи.
замолкни, умри и исчезни.
в отсветах на воде мелькает его отражение; сережа смотрит на него и знает, если бы они встретились сейчас, то он смог бы сохранить лицо. укутаться поплотнее и смотреть вскользь. сначала это давалось с титаническим трудом, лишь слепой не видел, в какую броню трубецкой облачился, чтобы не дать себе слабину. течение не остановить, время всегда работает на тех, кто допускает ошибки. рутинные дела становятся событием, к которому нужно готовиться, словно ты вышедший из комы и заново учишься сидеть прямо. трубецкой учится перешагивать порог аудитории и не искать кондратия взглядом. учится мириться со скукой по вечерам и не задерживать взгляд на отражении собственной шеи в ванной. учится спрашивать домашку у муравьева-апостола и не скидывать каждый встречный мем в их с рылеевым чат, потому что вы не можете оправлять пользователю сообщения.
мы же сможем остаться друзьями?
сережа нехотя вспоминает, что у него есть друзья и еще. что он может долго и упорно сбегать после занятий, но крепкая хватка утащит его за локоть в сторону курилки, а тяжелый взгляд прикует к месту. наверное, если вычитать рылеева, то тезка трубецкому что-то вроде ближайшего друга, но мозг отказывается и вычеркивать кондратия, и называть их отношения хоть самой лучшей в мире дружбой.
это нечто иное, другой природы и с неправильной реализацией. злой рок, поэзия, шторм на море, разве это похоже на дружбу.
— при всем моем уважении, — апостол неторопливо закуривает и протягивает трубецкому зажигалку, — к вашим высоким отношениям, но это то, о чем я думаю? — и поправляется неловко, — мы думаем. миша мне все мозги уже выебал.
тот избегает взгляда в глаза. прекрасно знает, как все выглядит со стороны. сначала игнор всех на свете и жизни на окном, потом — друг друга. у кондратия по плечам скользит растянутый ворот футболки, он эти пятна, следы носит как награды, как будто это все, что у него осталось. трубецкому смотреть на них боязно и хочется, как хочется орать во все горло, говорить пусть даже апостолу прямо в лицо: да, мои руки на нем, мои губы, мое сердце —
на сереже водолазка под самое горло, ему с зеркала не улыбается трус.
ему хочется сделать пафосное лицо, глянуть исподлобья, крепко затянувшись, и целомудренно выдать: «знаешь, серег, иногда люди спят друг с другом не по любви».
но трубецкой молчит, ищет слова получше и сил в себе побольше, асфальт под ногами намокший, дым застревает в легких. он остается способен лишь на:
— да, — выходит спокойно и убедительно, — мы разберемся.
потому что буря давно замолкла, перед ним только ровная водная гладь, под ней течение никого не хочет убить, оно просто ведет за собой. муравьев-апостол не из тех, кто поймет, на нем рыцарские доспехи и компас в голове работает без перебоя, но вот так, наверное, выглядит нормальная дружба. он усмехается по-доброму, трет ребром ладони замерзший нос.
— ну ты и мудак, господи.
сережа пожимает плечами.
терпение = благодетель. не оставаться наедине в одном помещении, не сворачивать вместе в сторону метро. трубецкому приходится делать вид, что что-то важное на экране телефона, чтобы не двигаться с места и позволить кондратию идти одному, не обременять неловким молчанием. вслед смотреть сколько угодно, но друг на друга — не больше одной случайной секунды. пропасть между залита темной водой, не надо в нее соваться. трубецкой терпит в большей степени самого себя, клубок тоскливых мыслей в своей голове, царапины из-под ребер от скребущихся кошек — это кричащее, нервное чувство вины. его обстреливают со всех стороны: полувзгляды, полуфразы, у них все еще общая компания и одно общее дело, но сережа не дает понять, что как-то его задевает, потому что всем этим нитям он благодарен — они связывают их вдвоем, поэтому пускай проходят хоть насквозь. он недолго думает, когда с опозданием влетает в аудиторию, и, снова замечая свободное справа от кондратия место, впервые с размолвки не поднимается выше на пару рядов, а кидает сумку рядом. тот даже ухом не ведет, но трубецкому кажется, что пора, и безопасное расстояние между локтями даже спасает. они не обмениваются и парой слов, но все наладится, правда. уже завтра они смогут сказать друг другу «пока», расходясь от дверей, и сереже не будет ничего ценнее скупого торопливого прощанья.
кондратий чем дольше взгляд на нем держит, тем воду сильнее себе подчиняет. она замирает, останавливается, темнеет и холодеет; сережа над собой работает. учится думать раньше, чем говорить, учится искать ответы прежде, чем задавать вопросы. не торопиться и слушать голову. полумертвое, страстное приходится душить ночами подушкой, которая пахнет ничем. кондратий теперь иногда оказывается снова близко, и трубецкому тупой наученной собакой хочется впиваться зубами во все, что им пахнет. заело как кассета, вбилось намертво тоже как клеймо, ты никогда не забудешь его голос и вкус его кожи, но все это остается за запертой дверью, утащено на дно. уже холодает серьезно, когда трубецкой вылезает из-за стола и курить идет вслед за рылеевым, прихватив со стойки нарочное забытое им пальто. в секундной паузе на лестнице он это себе позволяет — сжать в пальцах ткань, услышать то теплое, живое, ему лишь принадлежащее. мгновением позже — безучастно кинуть ему пальто на дрожащие плечи, уронив простое «ты как». они уже разговаривают — много и обо всем, кроме самого главного. в полупьяных глазах напротив сережа не видит ни любви, ни оправданий, ни обвинений.
к декабрю подходит сессия, а ничто не объединяет лучше, чем общий враг. трубецкой сперва все юлит, зовет остаться в универе или кинуть тетради где-нибудь, где нальют кофе, но кондратий обещает вылить тот самый кофе ему на голову, когда они дойдут до его дома, будто забывает, старается забыть, что там за поле боя оставлено было. миша с сережей помогают присутствием, хотя и конспекты учить мешают; в спальню трубецкой нарочно не заходит, иногда они остаются наедине вдвоем на кухне, и время тут же замедляет ход. этот порог переступать как на плаху становиться, но кондратий вдумчиво читает лекции вслух, и его голос транквилизатором под кожу. вместо кофе остывший зеленый чай, который разливается из чашки — сережиной чашки на рылеевской кухне — по столу, потому что мишель плюхается задницей прямо на него. трубецкой еле слышно улыбается; он вернется сюда еще тысячу раз.
преступники всегда так делают, правда. возвращаются на место преступления.
разговоры становятся глубже, тишина — теплее. все вокруг будто забывают о катастрофе, как о костях, зарытых в землю, на которой ставят все новые и новые жилые кварталы. эта мертвая почва будет доставать лишь в беспокойных ночах, они у трубецкого всегда под далекий стук колес, но даже он громче сердцебиения. лень вылезать из постели, чтобы разбивать голову об стену, и только это выручает. с высоты прошедшего времени он смотрит вниз — на холодную воду под падающим снегом, на самого себя, что больше не позволит так ошибаться. стоит накидаться слишком сильно, как трубецкой по-английски уходит: самому себе не доверяет. боится быть откровенным, плотнее сжимает губы и фокусирует взгляд в одной точке. в следующий раз просто не будет пить — будет занудно называть друзей алкоголиками, подсовывать им еду, чтобы не хлестали водку на пустой желудок. будет смотреть, как по кухне кружит уже пьяный кондратий, ищущий черт знает что, веселый, пылающий. в его глазах будут гаснуть огни, но улыбка от взгляд на сережу поползет шире. трубецкой увидит в нем несмело вылезшее наружу, как звереныш из промерзшей норы, желание быть ближе и махнет головой, мол, нет, не пойду, а когда вновь остается один, то откроет балконную дверь шире и закроет свои глаза. там зима истинно питерская: пробирающая до костей, колкая, промозглая. трубецкой закаляется вместе с ней.
это входит в привычку. мозг со временем усваивает прописанный алгоритм, и вот он становится базовым. когда его сухие теплые губы едва ни касаются твоей шеи, пока он шепчет что-то тебе посреди важной лекции, твое лицо должно быть сдержанно-равнодушным. если тебе нужно коснуться его руки, убедись в силе своей хватки — не передави и не будь слишком нежным, а лучше подумай еще раз нужно ли тебе его трогать.
сережа подвисает и сует руку обратно в карман. кондратий болтает с кем-то в коридоре, трубецкому нужно на улицу, но он справится с этим один. на мгновение сомневается в необходимости объяснений, но плюет и на них.
если честно — на всех.
ему по большей мере собеседники больше не нужны. все ответы у сережи давно на руках, он закопал их в землю. теперь уже кажется, что ради себя. что не было никакого благородства и нежелания лишней крови, он думал о себе — о том, чтобы никто в тебя не заглядывал. в конечном итоге только сам себя не предашь. трубецкой верит кондратию и его безмолвной клятве быть всегда рядом, но в ответ хмурится и молчит. себе не доверяет. по фундаменту трещины так и остались, теперь ползут неторопливо по первым заморозкам на реке. сломать проще простого, но трубецкому они последней надеждой — пусть заживает.
мерзнет, лечится, умирает.
он отвратительно мерзко шутит и получает локтем в бок: больше никто никого не жалеет. рылеев обнимает его на прощание, пахнет сладко и смотрит вкрадчиво. сережа смело встречается с ним глазами и все еще тихо смеется. думает о том, как выглядит со стороны, и не больше.
куда бить будешь? весь в железо закован.
февраль непредсказуем. гадать, какая завтра будет погода, так же бессмысленно, как гадать, могли бы они быть счастливы друг с другом. от лукаво подсунутых воображением картин того, как они по утрам просыпаются в одной постели, не торопясь друг друга покинуть, трубецкому теперь не по себе. это что-то запретное, как навязчивая мысль столкнуть кого-то на рельсы метро прямо под поезд, ударить в ярости бездомную кошку или задержать взгляд на груди сестры, обтянутой лишь тонкой майкой. выстрел стыдом и откат мыслей до поворота нетуда. рылеев тоже теперь там, его тонкие запястья и лодыжки, его спина, плавно выгибающаяся, и, когда свободный свитер на ней задирается, обнажая полоску светлой кожи, сережа хоронит себя в ласковых тенях, что лижут ему поясницу, и присыпает снегом. ты не чувствуешь ничего, понял? наверное, кондратию холодно.
трубецкому зато — нормально. корка льда плотнеет, застывает красивым сияющим бриллиантом. они вновь не разлей вода. они снова — дискуссии о вечном, перепалки из-за новостных заголовков, один бокал на двоих, а весна совсем не идет, и кондратий натягивает на ладони сережины перчатки. он рассказывает о том, как познакомился с аспирантами кафедры, и про то, что одна из них безумно красивая. трубецкой фыркает; пожалуйста, будьте счастливы. пытается заставить кондратия написать за него эссе, но тот смотрит недоверчиво, вместе писать будем. такси снова наугад, под паркой рылеев прижимает к груди две бутылки вина, потому что им обоими этого хотелось. между ними взаимного много.
сережа предъявляет себе список требований и каждому из них упрямо следует. все в порядке, они лучшие друзья. это месиво под ногами скоро исчезнет, эта тоска вместе с ним растворится. трубецкому нравится, когда его считают немногим хуже, чем он есть на самом деле, потому что, глядя кондратию в глаза, до боли четко осознает, что дна, кроме него, никто не знает. не лез туда своими ладонями, что сейчас обхватывали кружку, доверху залитую полусладким. какая разница, что там засыпано, спрятано. сережа знает свой взгляд — он стреляет им без предупреждений, безразличным и серым. ему нравится присутствие кондратия рядом, диван все тот же и люстра под толком. друг без друга будут счастливее, в этом марте лед уже не растает, он тяжелый, толстый, сияет на солнце, сияет в свете его, рылеева, пьяной улыбки. сережа не понимает, хочет ли тот к нему притянуться поближе. все его лицо — ультиматум: «я знаю, где дверь».
и он тянется к подоконнику за пачкой сигарет.




